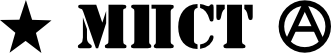Эррико Малатеста
Наука — это оружие, которое может служить как добру, так и злу; но сама она полностью игнорирует понятия добра и зла.
Поэтому мы — анархисты не потому что нам так велит наука; мы — анархисты еще и потому, что мы хотим, чтобы все люди могли наслаждаться выгодами и удовольствиями, которые предоставляет наука…
В сфере науки теории, всегда гипотетические и временные, являются удобным средством для соединения и увязывания между собой известных фактов. Иными словами, они — полезный инструмент для исследований, открытия и истолкования новых фактов. Но они отнюдь не являются истиной. В сфере жизни (я имею в виду, общественной жизни) они — всего лишь видимость науки, к которой некоторые люди прибегают в свое удовольствие и по своему желанию. Сциентизм (я не говорю о науке), господствовавший во второй половине XIX века, породил тенденцию, которая сводилась к объявлению научными истинами (или законами природу, а потому чем-то необходимым и фатальным) того, что в действительности было лишь идеей справедливости, прогресса и т.д. Эту идею каждый строил по-разному, в зависимости от своих интересов и надежд. Отсюда возникли «научный социализм» и «научный анархизм», который проповедовался нашими ветеранами, но всегда казался мне чем-то в роде барочных идей, смешавших вещи и концепции, совершенно различные по своей природе…
Я не верю ни в непогрешимость науки, ни в ее способность объяснить все, ни в ее миссию регламентировать и вести людей; точно так же я не верю в непогрешимость папы, в священное откровение или в божественное происхождение святого писания.
Я верю только в то, что можно проверить, но я хорошо знаю, что проверки относительны и в действительности позже преодолеваются и отменяются другими установленными фактами; я полагаю, что сомнение должно быть духовной позицией всех тех, кто хочет все больше приблизиться к истине, к части истины, по крайней мере, которую можно установить…
Воле верить, то есть воле уничтожать свой собственный разум, я противопоставляю волю к знанию, которая открывает перед нами бесконечное поле исследований и открытий. Лично я, как уже сказал, признаю только то, что может быть проверено так, чтобы это удовлетворило мой разум — и я признаю это только временно, относительно, всегда в ожидании новых истин, более верных, чем те, что были известны до сих пор.
Итак, никакой веры в религиозном смысле этого слова.
Я говорю, что надо иметь веру и что в борьбе за добро нужны люди, обладающие твердой верой, стойкостью в бурях, «как башня, никогда не качающаяся под порывами ветра». Существует даже анархистская газета, которая, вдохновляясь, очевидно, этой необходимостью, так и называется: «Феде!» («Вера!»). Но речь здесь идет о другом смысле слова. В данном случае слово «вера» служит синонимом твердой воли и страстной надежды и не имеет ничего общего со слепым верованием в вещи, кажущиеся непостижимыми или абсурдными.
Но как совместить, с одной стороны, этот отказ от веры в религию и систематическое сомнение в окончательности результатов науки с правилом этики, твердой волей и страстной надеждой на осуществление моего идеала свободы, справедливости и братства, с другой? Факт состоит в том, что я не вношу науку туда, где ей не имеет никакого смысла быть.
Роль науки состоит в открытии и установлении фактов, а также условий, при которых факт возникает и необходимым образом повторяется; иными словами, ее роль — в установлении того, что есть и необходимым образом должно быть, а не того, чего люди желают и хотят.
Наука останавливается там, где кончается фатальность и где начинается свобода. Она полезна человеку, поскольку не позволяет ему потеряться в химерах и, в то же самое время, дает ему возможность приобрести больше времени для осуществления его свободной воли — качества желать, которое в разной степени отличает людей и, быть может, всех животных от инертных вещей и неосознанных сил.
Именно в этой способности к воле следует искать источники этики и правил поведения…
…Если я тверд и решителен в том, чего я хочу, я всегда сомневаюсь в том, что я знаю; я полагаю, что, несмотря на все усилия понять и объяснить Вселенную, до сего дня не удалось достичь не то что достоверности, но даже правдоподобия достоверности, и я не уверен, что человеческому разуму удастся достичь ее хоть когда-нибудь.
Если бы мне сказали, что я обладаю научным духом, я не стал бы гневаться, я был бы рад заслужить подобное определение. Ведь обладать научным духом означает исследовать истину с помощью позитивных, рациональных и экспериментальных методов, никогда не впадая в иллюзию обнаружения абсолютной Истины и довольствуясь тем, что после долгого труда приближаешься к ней и открываешь частичные истины, всегда признаваемые временными и подлежащими пересмотру. Научное, по моему мнению, должно быть тем, что проверяет факты и делает логические выводы, какие бы то ни было, в противовес тем, кто разрабатывает систему, ища затем подтверждения фактами и, делая это, бессознательно отбирая факты, совпадающие с их системой, и отрицая другие; при случае они не уважают факты и искажают их, насильно укладывая в русло их теорий. Наука использует рабочие гипотезы: она формулирует предположения, которые служат путеводителем и стимулируют исследования, но она не становится жертвой фантазий, принимая привычные предположения за явные истины, с помощью произвольной индукции обобщая и возводя в категорию закона всякий отдельный факт, соответствующий выдвинутому тезису.
Вызванный и порожденный энтузиазмом, выросшим из действительно экстраординарных открытий второй половины XIX века в области физико-химии и естественной истории, господствовавший над духом той эпохи сциентизм, который я отвергаю, состоит в вере, будто наука — это все и может все, в признании любых частичных открытий окончательными истинами, догмами, в смешении Науки и Этики, Силы в механическом смысле этого слова — нечто определимого и измеримого — и этических сил, Природы и Мышления, закона Природы и Воли. Сциентизм логически приводит к фатализму, то есть к отрицанию воли и ее свободы…
Кропоткин, пытаясь «придать Анархии место в современной науке», полагает, что «Анархия есть концепция Вселенной, основанная на механической интерпретации феноменов, которая охватывает всю природу, включая жизнь общества».
Это философское намерение, которое можно принимать, или нет; но в нем нет ничего ни от науки, ни от анархизма. Наука — это сумма и систематизация того, что мы знаем или полагаем, что знаем: она формулирует факты и пытается обнаружить закон, которому они следуют, познать условия, при которых факты возникают и необходимым образом повторяются. Она удовлетворяет определенные интеллектуальные потребности и, в то же время, служит вполне действенным инструментом могущества. Выявляя в законах природы пределы человеческого произвола, она увеличивает эффективную свободу человека и дает ему средства повернуть эти законы в свою пользу. Наука одинакова для всех, она индифферентна к добру и злу, к освобождению и угнетению.
Философия может быть гипотетическим объяснением того, что известно, или попыткой угадать то, чего мы не знаем. Она ставит проблемы, которые, по крайней мере до сего дня, ускользали из сферы компетенции науки, и воображает решения, которые невозможно проверить при нынешнем состоянии наших знаний — эти решения варьируют и сталкиваются друг с другом в зависимости от философских систем. Если философия не превращается в простую словесную игру или в набор трюков, она может служить науке, стимулируя и направляя ее — но она не является наукой. Анархия, напротив, — это чаяния человека, которые не основываются ни на какой естественной необходимости, подлинной или предполагаемой, и могут быть осуществлены или не осуществлены по воле человека. Она использует средства, даваемые наукой человеку в борьбе с природой и противостоящими волями; она может использовать прогресс философской мысли, когда та помогает человеку лучше думать и различать, что реально, а что нет; но ее нельзя смешивать ни с наукой, ни с филолсофской системой — под угрозой абсурда.
Посмотрим, действительно ли «механическая концепция Вселенной» объясняет известные факты. Посмотрим затем, может ли она быть совместимой и логически сосуществовать с анархизмом или с любым другим чаянием достичь нового состояния вещей, отличного от того, которое мы знаем.
Ничего не возникает ни из чего, ничего не исчезает бесследно; это фундаментальный принцип механики — сохранение энергии.
Тело не может передать тепло другому телу, не остынув само; один вид энергии не может превратиться в другой (движение в теплоту, теплота в электричество и т.д.) без того, чтобы полученное в одном месте не утрачивалось в другом. Наконец, вся физическая природа очень просто доказывает этот факт: если есть десять штук чего-либо и пять расходуются, то остается пять, ни больше, ни меньше.
Напротив, тот, у кого есть идея, может передать ее миллионам людей, ничего не теряя, наоборот, идея придает больше сил и эффективности тому, кто ее пропагандирует. Учитель учит других тому, что он знает и не теряет этим своего знания, наоборот, уча, он сам много узнает и обогащает дух. Если пуля, пущенная рукой убийцы, обрывает жизнь гения, наука может объяснить, что происходит со всеми материальными элементами и физическими энергиями, которыми он обладал до своей смерти, и продемонстрировать, что после разложения трупа от него ничего не останется в прежней форме, но, в то же время, материально ничего не пропадет, поскольку каждый атом тела обнаружит всю свою энергию в другой комбинации. Но идеи, которые этот гений нес миру, изобретения, которые он совершил, сохраняются, пропагандируются и могут обрести невиданную силу; идеи же, умершие в нем и могущие принести свои плоды, если бы он остался в живых, потеряны навсегда.
Может ли механика объяснить эту силу, это специфическое качество продуктов духа?
И, к сожалению, пусть от меня не требуют иных объяснений тому, чего механика не в состоянии объяснить.
Я не философ; но не обязательно быть им, чтобы видеть некоторые проблемы, которые в той или иной мере терзают все мыслящие головы. Не иметь возможности решить проблему не значит, что ты обязан принимать решения, которые тебя не удовлетворяют… тем более, когда решения, предлагаемые философией, столь же многочисленны, сколь и противоречивы.
Посмотрим теперь, совместим ли «механизм» с анархизмом.
В механистической концепции (равно как в концепции теистской) все является необходимым, все фатально, ничего не может быть иначе, чем оно есть.
Действительно, если ничего не исчезает и ничего не создается, если природа и энергия, какими бы они ни были, являются фиксированными количествами, подчиняющимися законам механики, то все феномены связаны между собой так, что это не подлежит изменению.
Согласно Кропоткину, если человек — часть природы, а его личная и общественная жизнь — также природный феномен (такой же, как рост растения или развитие жизни в сообществах муравьев и пчел), то нет никакого смысла, проходя путь от растения к человеку или от колонии бобров к человеческому городу, отказываться от метода, который до сих пор так хорошо служил нам, чтобы искать другой в арсенале метафизики. Великий математик Лаплас в конце XVIII века говорил: «Если будут даны силы, которые воодушевляют природу и соответственно положение существ, ее составляющих, то достаточно широкий человеческий ум мог бы знать прошлое и будущее столь же хорошо, как и настоящее».
Такова чисто механистическая концепция: все, что было, должно было быть; все, что есть, должно было появиться; все, что будет, должно быть неизбежно и фатально, вплоть до мельчайших деталей положения и движения, интенсивности и скорости.
Какой смысл могут иметь такие слова, как «воля», «свобода», «ответственность», при такой концепции вещей? Чему должны служить образование, пропаганда, бунтарство? Если больше нельзя изменить предопределенный ход человеческой истории, как нельзя изменить курс звезды или «рост растения»? Ну и как? Что в этом общего с Анархией?..
Цель научного исследования — изучение природы, открытие фактов и «законов», которые ими управляют, знание условий, при которых тот или иной факт необходимым образом появляется и столь же необходимым образом повторяется. Наука есть тогда, когда она может предвидеть то, что грядет, может ли она объяснить это, или нет; если предвидение не оправдывается, это означает, что была допущена ошибка и остается только предпринять более широкое и глубокое исследование. Случай, произвольность, фантазия — это концепции вне науки, которая исследует только то, что фатально, то, что не может быть иным, нежели оно есть, то, что необходимо.
Но охватывает ли эта необходимость, что связывает между собой в пространстве и во времени все природные феномены и является объектом исследований и открытий в науке, все, что происходит во Вселенной, включая психические и социальные феномены?
Механицисты считают, что да; они полагают, что все подчиняется одному и тому же механическому закону, все предопределено предшествующими физико-химическими процессами: курс звезды и распускание цветка, эмоции любовника и ход человеческой истории. Система, могу признать, кажется прекрасной и грандиозной, менее абсурдной и непостижимой, чем метафизические системы; она полностью удовлетворяла бы разум, если бы могла продемонстрировать свою правоту. Но, несмотря на все псевдо-логические усилия детерминистов сделать ее совместимой с жизнью и этическим чувством, в ней не оказывается места, большого или маленького, обусловленного или нет, для воли и свободы. Наша жизнь и жизнь человеческих обществ оказывается полностью предопределенной и предвиденной всегда и навечно, до малейших деталей, вплоть до какого-нибудь механического факта, и наша воля — не более чем простая иллюзия, как у камня, о котором говорил Спиноза: падая, он сознает, что падает, и верит, что падает, потому что так хочет.
Если согласиться с этим — чего нельзя не сделать, не вступая в противоречие с механицистами и детерминистами — то абсурдно желать управлять собственной жизнью, желать учиться или учить, желать изменить общественную организацию в том или ином смысле. Вся эта деятельность людей по подготовке лучшего будущего будет лишь бесполезным плодом иллюзии и не сможет продолжаться, если будет обнаружено, что это иллюзия. Правда, и иллюзия, и абсурд тоже были бы фатальными продуктами механических функций мозга и в качестве таковых также укладывались бы в систему. Но, еще раз, какое место оставалось бы при этом для воли, для свободы, для эффективности действий человека, направленных на его собственную жизнь и на его судьбу?
Для того, чтобы люди обрели уверенность или, по крайней мере, надежду с тем, чтобы делать полезные вещи, необходимо признать существование творческой силы, самопричину или самопричины, независимые от физического мира и механических законов — то есть той силы, которую мы называем волей.
Признание существования такой силы означает, без сомнения, отрицание всеобщности принципа причинности и достаточного основания, и здесь наша логика дает сбой. Но не всегда ли так бывает, когда мы хотим пробиться к сути вещей? Мы не знаем, что такое воля; но знаем ли мы, что такое материя, энергия? Мы знаем факты, но не их основание и, невзирая на все наши усилия, мы всегда наталкиваемся на эффекты, не имеющие причины, на причину-в-себе — и если нам нужны такие всегда присутствующие и всегда активные самопричины для объяснения фактов, мы принимаем их существование как необходимую или, по меньшей мере, удобную гипотезу.
С этой точки зрения, роль науки сводится к тому, чтобы открывать фатальное (законы Природы) и устанавливать пределы, где кончается необходимость и начинается свобода: ее главная польза состоит в освобождении человека от иллюзии возможности делать все, что ему заблагорассудится, и во все большем расширении сферы его эффективной свободы. Не зная о фатальности, с которой все тела подчиняются законам гравитации, человек мог бы продолжать думать, что он может летать, когда только захочет, но оставался бы на земле; когда наука открыла условия, необходимые для того, чтобы удержаться и передвигаться в воздухе, человек действительно приобрел свободу полета.
В заключение, вот единственная вещь, которую я поддерживаю: существование воли, способной порождать новые эффекты, независимо от механических законов природы, — это необходимая предварительная гипотеза для того, кто считает возможным радикальное изменение общества.
(«Volonta», 27.12.1913, 27.04.1922; «Pensiero e Volonta», 15.09.1924, 1.11.1924, 1.07.1925, 1.02.1926)