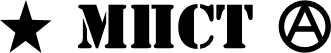* * *
Костя провалялся до полудня, отсыпаясь за прошедшую неделю, когда он спал по два-три часа в сутки; а потом, позавтракав, дожидался Тамару, смотря новости по телевизору. Когда смотреть было нечего, Эллин подходил к телефону. Сперва он позвонил Маркелову, но того дома не оказалось. Потом — тетке. Потом — снова Маркелову и снова безрезультатно. Бийцу Эллин звонить не стал. Звонить домой было рано. Костя позвонил Сиротину — не застал. Еще покрутил переключатель программ телевизора. Снова позвонил Маркелову. Подумал, кому бы еще стоило позвонить, и вдруг понял, что в Москве ему звонить-то особо и некому — хоть в свое время у него и была в Москве куча знакомых, но последний год он практически ни с кем из них не общался, да и вообще мало с кем общался, кроме Ксении.
Тут только Костя сообразил, что он до сих пор даже не подумал о том, чтобы позвонить Ксении, и не потому, что считает бесполезным, а просто нет желания. Двадцать пятого, когда Эллин последний раз уходил от Тамары, он то и дело вспоминал про Ксению. И хотел бы не вспоминать, да не мог — сама в голову лезла. А теперь — стала для него совсем посторонним человеком. Когда он возвращался к Тамаре, то о Ксении даже не вспомнил, при том, что по Тамаре — даже малость соскучился. Где, в какой момент произошла эта метаморфоза? Там, в московской канализации? Неплохое место для избавления от любовных страданий!
Костя подумал, что как бы то ни было, а это к лучшему. По крайней мере, теперь легче. Конечно, Тамара тут — не при чем. Какая может быть Тамара в канализационной трубе? И вообще, подобные вещи переживали многие, безо всякой Тамары. Пожалуй уж, странно в этой истории не то, что он вдруг так неожиданно избавился от своей прежней привязанности, а то, что он, пусть не так и сильно, но все-таки привязался к Погудиной. С чего бы это? Горячая греческая кровь? Хотя при чем тут греческая кровь? Костин прадед, тот самый, что вступил в семнадцатом в Красную гвардию, был чистокровный финн, а и его окрутили. Правда прабабка была не вдвое старше прадеда, а так, раза в полтора, но зато ему пришлось на ней жениться. Хотя, там все было иначе, да и вообще та история была — глупее некуда.
Тогда, в сентябре восемнадцатого, после неудачной стычки не то с чехами, не то с Комучем, закончившейся разгромом красного отряда, чудом уцелевший будущий костин прадед — тогда еще восемнадцатилетний красноармеец — некоторое время отсиживался в погребе у местной вдовы-солдатки. Через месяц он вернулся в эти края в составе красного полка; полк разместили по избам в другом конце села, а прадед по старой памяти несколько раз заглянул в тот самый дом, где он недавно прятался от белых. А еще через неделю его вызвал комиссар и объяснил, что разная недобитая контра распространяет среди крестьян свою пропаганду — дескать, большевики все — люди безнравственные — детей не крестят и с женами не венчаются, да и вообще не женятся, а живут, с кем ни попадя, и всех хотят такими же сделать; и пропаганда эта среди несознательных элементов имеет успех. «А потому, комсомолец Орголайнен, венчание — это, конечно, бред собачий и опиум народа, но вот законным гражданским браком вам в интересах революции надлежит сочетаться, а то на вас уже пальцами показывают, как на живую иллюстрацию буржуазно-кулацко-помещичьей пропаганды!»
Прадед со вдовой только за жизнь говорил да про скорое всеобщее счастье рассказывал, ничего такого между ними не было; и хотел он было все это выложить, но, услышав про интересы революции, заткнулся и в тот же день оказался женат на женщине, по крайней мере, лет на десять его старше. Бумажку об этом ему накатал сам комиссар. Кстати сказать, на успехах буржуазно-кулацко-помещичьей пропаганды это никак не отразилось, и уже в двадцать первом, когда комвзвода Орголайнен приехал в отпуск в село, к нему заявились трое его шуринов и прямо спросили, собирается ли он по-человечески в церкви обвенчаться или намерен и дальше их сестру позорить? Красный командир попытался было объяснить мужикам про опиум для народа, но братья только спросили: «А это ты видал?» — и показали ему свои кулаки величины необыкновенной. Тогда прадед достал свой ,раунинг и сказал: «А это видали? По пуле — на каждый кулак, и еще одна останется — на всякий случай!» — после чего братьев — как ветром сдуло.
Вспомнив про прадеда, Костя неожиданно для себя подумал совсем о другом. О том, что прадеду в его — Костины годы кое в чем было легче. Прадед твердо знал, за что он воюет. Вернее, не знал, но был уверен, что знает. А за что собирается воевать он — Костя? Да и не собирается — воюет уже, хоть и не держал в руках оружья. Если вдруг Ельцин завтра полетит, что тогда? Возвращение «застоя»? Не выйдет. Полстраны надо пересажать, чтоб смирились. Да и не дадут патриоты. «Народная приватизация без жидов» под президентством Руцкого? Значит, опять то же самое, только роли поменяются. Может, защитники БД что-то выгадают, хотя бы часть из них, ну а остальные так и останутся в заднице. Или революция по Бийцу? У него сейчас есть шансы. Хотя, если будет выделываться, его, скорей всего, заткнут. А если не заткнут?
Если передерутся сталинисты с патриотами, и Биец опять сделает удачный ход? Тогда что, новый семнадцатый? Если Биец влезет на броневик, то и Эллину что-то перепадет.
Костя усмехнулся. Ну ладно, пусть лично он что-то выгадает. Пусть он даже станет вторым человеком после Бийца. Пусть даже первым. А что остальным? Спасибо товарищу Элину за наше счастливое детство? Чем он тогда лучше Ельцина? Тем, что победил? Если он, конечно, победит…
Нет, перед этой системой он чист. Он не шутил, тогда у БД, когда отвечал репортеру. Все эти восхвалители «новой жизни» могут говорить о нем что угодно, но на самом деле он не нарушал защищаемых ими законов. Если можно все, если прав тот, кто сильней, если нет никаких правил, вернее, они, может, и есть, но устанавливаются опять-таки теми, кто сильней; значит, можно и менять власть, значит, прав все равно будет победитель. Каждый зарабатывает, как может. Кто-то грабит народ, а кто-то — банки. Кто-то служит Ельцину, а кто-то — Хасбулатову. Банкир рискует разориться, Костя — сесть в тюрьму. Если банкир разоряется, то прав его конкурент. Если разоряется его конкурент, то прав он. Если Руцкого посадят в тюрьму, то прав будет Ельцин. Если Руцкого посадят на трон, то прав будет Руцкой. Та же логика. Идет война всех против всех, и прав тот, кто побеждает. Но если он — Эллин принял правила игры, то зачем вообще огород городить? Проще пойти, найти Босса и попросить его устроить Эллина охранником. Босс наверняка найдет ему место. Или здесь ставки выше? Спасибо товарищу Элину…? Эллин представил себя с трубкой в зубах. Нет, это, конечно, бред. Но за что же он все-таки воюет? Против чего — понятно, а за что? Чорт его знает…
Костя недовольно поморщился. В конце концов, до сверженья Ельцина еще дожить надо. А пока там никаким свержением и не пахнет, большинство БДшных шишек спят и видят, как с Ельциным договориться. Эллин вспомнил, как они с Бийцем в Белом доме случайно подслушали разговор — кто-то из БДшной верхушки разговаривал с какой-то шишкой из Союза офицеров, дескать, откуда-то нам на помощь идут двадцать человек с автоматами, так как бы нам этих людей отшить, потому что, хрен их знает, что это за люди и каких они взглядов. Уж с такими-то ему точно не по пути. А с кем по пути? Костя снова задумался, но так и не нашел ответа.
* * *
На Бийца костин уход не произвел особого впечатления. Уходя, Эллин пообещал вернуться, так что Биец, был уверен, что новый сторонник (а он уже считал Эллина таковым) ушел не насовсем; ну а временная отлучка была вполне объяснима, тем более, что в борьбе Ельцина и ВС, похоже, наступило затишье. К переговорам подключилась церковь, Ельцин, вроде бы, понял, какую кашу он заварил, и стал малость поосторожней, да и в Белом доме до сих пор не больно-то хотят драки. Это понятно и по случайно подслушанным разговорам и обрывкам фраз, и по тому, как баркаши делают вид, что ищут новые подземные ходы для связи с внешним миром (хотя, чем плох тот, что знает Биец?), а на деле — просто ползают по таким грязным закоулкам, куда даже крысы не заглядывают; и по многим другим малозаметным и вовсе не заметным, но откладывающимся в подсознании подробностям. В такой ситуации излишняя активность была не нужна и даже опасна — за экстремизм могли и из БД попереть, а значит, и нужда в людях стала меньше. Так что, временный уход Кости не выглядел дезертирством, тем более, что Эллин оставил Бийцу теткин телефон.
Но Миша Голицын на следующий день обнаружил исчезновение части парткассы и, ориентируясь на опыт общения с люмпен-пролетарками, мигом связал оное исчезновение с уходом Эллина. Биец возразил было, что в подобных случаях телефона не оставляют, однако Миша позвонил по оставленному номеру и услышал, что Кости нет, где он — неизвестно, и когда будет — тоже. Биец заметил, что Эллин мог бы их обокрасть уже давно и что впечатление проходимца он не производит. На это Миша ответил, что Эллин и на него произвел хорошее впечатление, и, видимо, речь идет вовсе не о краже, а об экспроприации, видимо, Биец так достал Эллина своими троцкистскими телегами, что тот потерял к нему всякое уважение и свалил, прихватив деньги, дабы пустить их на более нужное дело, нежели троцкистская пропаганда. Такого оскорбления Биец стерпеть не мог и велел лучше искать пропавшие финансы, да и сам начал их разыскивать с удвоенной энергией. В конце концов, недостающую часть кассы нашли — она лежала на столе под газетой, на которую складывались бычки, сохраняемые на самокрутки, и никто эту газету просто не догадывался поднять. Авторитет троцкизма был восстановлен.
* * *
Тамара уже утром, оказавшись на работе, решила, что такое событие, как возвращение Кости, просто необходимо отметить. А тут еще в разговоре вспомнили, что в Крыму сейчас бархатный сезон, и Тамара затосковала. В прежние времена она каждый год отправлялась на юга, правда, не осенью, а летом, когда дочку можно было отправить в пионерлагерь. Конечно, удовольствие это было дорогое, не для Тамариной зарплаты, даже с учетом ее ударного труда, тем более, что ей надо было еще и дочку растить одной без мужа. Но тамарины поездки на юг, как правило, окупались, если не полностью, так частично, поскольку Тамара практически всегда находила себе на югах мужика, который ее кормил-поил, да еще обычно и обратный билет ей покупал на свои деньги, а однажды даже умудрилась поехать уже с кавалером, так что тот ее и туда свозил, и обратно привез. Правда, нет правил без исключений — как-то в начале восьмидесятых Тамаре не повезло, и она почти за целый месяц так никого себе и не нашла. То есть, мужиков вокруг нее было, конечно, полно, да только не было среди них такого, который бы Тамару устроил. Но такое вышло только раз, а обычно все было нормально. Да и от московских кавалеров ей тоже что-то перепадало. Так что, позволить себе ежегодный отпуск на берегах Черного моря Тамара вполне могла.
Теперь это все было в прошлом. Во-первых, хуже пошли дела с мужиками. Уже в восемьдесят девятом Тамара в Москве почти полгода не могла себе найти подходящего кавалера. А в девяностом на югах она подцепила какого-то мужика, который, хоть и прибыл с Севера, но уже успел порядочно поистратиться, так что за полторы недели он, угощая Тамару, прогулял с ней все, что у него еще оставалось. После этого Тамара, считавшая недостойным бросать кавалера из-за такого пустяка, как полное отсутствие денег, начала тратить свои и, в итоге, тоже осталась без копейки. Северянин, сперва возмущавшийся тамариным поведением и кричавший, что его никогда еще баба не содержала, к этому времени смирился и нашел какого-то знакомого спекулянта, которому Тамара загнала кольцо, подаренное кем-то из ее прошлых ухажеров. Денег хватило не только Тамаре на обратную дорогу, но и мужику на билет до какой-то сибирской станции, о которой Тамара и слыхать-то никогда не слыхала, поняла только, что это — где-то в Тюменской области. Это был, кажется, первый случай, когда общение с противоположным полом принесло Тамаре не прибыль, а убыток.
Ну, а, во-вторых, с тех пор как в девяносто втором «отпустили» цены, не то что куда-то поехать, жить не на что стало. А там еще и работы стало меньше, а значит, — и зарплаты.
Тамару выручал ее золотой запас, заменивший ей сберкнижку. Пожалуй, он был даже лучше сберкнижки, потому как вклады обесценивались вместе с деньгами, а золото — нет. Со временем он, правда, иссякал, но уж на одну поездку, по тамариным расчетам, должно было хватить. Правда, что Тамара, что Костя свои отпуска уже отгуляли, но работы все равно было мало, можно было взять за свой счет. О том, что будет потом, Тамара не задумывалась — она вообще не любила думать о будущем, предпочитая жить настоящим. Факт поездки на юга не за счет кавалера, а за счет дамы ее нисколько не смущал. Но смущало другое. Тамара чувствовала, что, пока эта заваруха не кончится, Костя никуда не поедет, даже если сам больше и не ввяжется (что, впрочем, тоже было весьма сомнительным).
В конце концов, Тамара решила не мучиться, про юга пока забыть и просто раскошелиться на бутылку вина — не водки, не портвейна, а именно хорошего вина — и каких-нибудь яблок. Что ни говори — вино и фрукты. Скромно и со вкусом.
Как обычно в последнее время, в пятницу работы было совсем мало, и уже в три Тамару отпустили домой. Она решила воспользоваться случаем и, добравшись до Преображенки, побежала по магазинам.
В винном очередь была приличная, но двигалась довольно быстро. Тамара заняла за какой-то насквозь проспиртованной старухой, а за ней занял мужик лет тридцати с фигурой гориллы — крупный, коротконогий и чуть-чуть сутулый.
Физиономией мужик напоминал дагестанского абрека, только без бороды (правда, волосы у него были светлые, но среди дагестанцев тоже иной раз попадаются блондины), однако Тамара сразу поняла, что он — обычный русак, хоть и с примесью какой-то восточной крови. Заняв очередь, он сразу же попытался завести с Тамарой разговор, из которого та поняла, что мужика зовут Рома, и что он разведен и живет один; ну а остальное она поняла благодаря своему опыту. Ясно было, что Роме в данный момент не хватает бабы, и что вообще постоянной бабы у него нет, а со временными он знакомится таким вот образом, как сейчас с Тамарой. И еще она поняла, что, хотя Рома явно неглуп, но круг интересов его — весьма узок, что сережки или кольцо он не подарит — не тот размах, но стакан всегда нальет и что как любовник он, может, и темпераментен, но довольно примитивен. В общем, в другой ситуации Тамара, скорей всего, решила бы, что сойдет на безрыбье, но сейчас у нее был Костя; и хотя Тамара не считала криминалом утром переспать с одним мужиком, а вечером — с другим, по отношению к Косте такой поступок показался ей явным свинством. Пожалуй, это был первый подобный случай в ее практике. Поэтому она, хоть и вступила в разговор с Ромой и держалась, как всегда, довольно свободно, но при этом давала понять, что Роме на нее никаких видов иметь не стоит.
Рома, однако, упрямо не терял надежды и продолжал вести непринужденный разговор. Говорил он о том, о сем, понемногу обо всем и, в конце концов, дошел и до ситуации с Белым домом. По Роме, выходило, что Ельцин — конечно, дерьмо, но только Верховный Совет — еще хуже, потому что им руководит Хасбулатов, а Хасбулатов — чеченец, а все чеченцы — звери и сволочи, и убивать их надо без различия пола и возраста. Голос Ромы при этом гремел так, что его слышала не только вся очередь, но, пожалуй, и прохожие за стенами магазина. Может, Тамара дипломатично и промолчала бы в ответ, но тут собеседник сам спросил ее мнение насчет чеченцев, так что отвертеться было невозможно.
— А чо, — сказала Тамара, — я чеченцев не знаю, я с ними не е…лась. С грузинами вот е…лась, с армянами. С кабардинцем е…лась, было дело. Счас вот с греком е…усь, наполовину, правда. А с чеченцами вот не приходилось. Если б помоложе была, можно было бы записаться в защитницы к Хасбулатову, а терь уж не возьмет — старая.
Очередь грохнула со смеху. Кто-то крикнул, что Хасбулатов возьмет-возьмет, никуда не денется. Старуха-алкашка поинтересовалась у Тамары, как это «наполовину», не на всю длину засовывая, что ли?
— Да не е…усь наполовину, а грек он — наполовину, — пояснила Тамара под хохот аудитории.
Рома резко помрачнел. Какой-то дед лет шестидесяти из середины очереди проворчал, что вот мол, за них же сволочей люди воюют, а они…
— Ага, — отпарировала Тамара, — за нас, как же! Как собаки за кость! У меня три раза было, когда я видела, что мужики дерутся, и думала, что это они из-за меня. А потом каждый раз оказывалось, что не из-за меня, а из-за моей пи…ды. Правда, я для них всех из одной пи…ды и состояла, так что им никакой разницы не было.
— А ты из одной пи…ды и состоишь, — угрюмо заявил Рома, явно недовольный то ли тамариным интернационализмом, то ли тем, что ему предпочли Хасбулатова.
— Для вас кобелей, конечно, — согласилась Тамара. — Только ты не больно-то нос задирай! Ты для этих, которые счас грызутся, тоже из одной ж…пы состоишь, они за то и грызутся, кому тебя в эту ж…пу е…ать.
Обстановка резко накалилась. Рома со словами: «Ах ты, б…дь старая», — схватил Тамару за волосы и замахнулся кулаком. Тамара, вспомнив молодость, привычным движением увернулась от удара и вцепилась Роме в физиономию. На руке у Ромы с криком: «Я те покажу, сволочь, привык дома жену бить!» — повисла проспиртованная бабка. Старик из середины очереди рванулся вперед с явным намерением принять участие в потасовке. Но тут продавщица заорала: «А ну, прекратите драку, а то товар отпускать перестану!», и очередь возмущенно загудела. Рому оттащили. На Тамару тоже зашикали, мол, думай, что говоришь, если даже мужик — дурак, зачем его так оскорблять? Тем временем подошла ее очередь, и она со словами: «А чо я, это он на меня полез, очень смелый, наверно», — полезла за деньгами.
— А ему ты не продавай, — сказала она продавщице, получив вино и сдачу, — пусть сперва перед тобой извинится, что с бабой драку затеял. И обернувшись к Роме, предложила:
— Ты пойди Хасбулатова за волосы похватай, если ты — такой смелый! Он тебе живо ноги вытянет, до нормальной длины…
* * *
Второго ровно в двенадцать на Смоленской площади началось сразу два митинга в поддержку Совета. Возле МИДа митинговало сотни три трудороссов во главе с Анпиловым. Неподалеку в сквере — человек шестьсот-семьсот во главе с Крючковым.
Через час сквер оцепило две сотни омоновцев. Вместо того чтобы бить собравшихся, как они это делали обычно, омоновцы выстроились в цепочку и, не обращая внимания на крики «Позор!», щитами вытеснили народ к набережной и через мост аж до Киевского вокзала. Оставив толпу митинговать на вокзале, омоновцы повернули и ушли. Вскоре разошлись и митингующие, благо, еще на Смоленке они успели за час и нашуметься, и даже принять резолюцию.
* * *
После всего того, что Костя увидел в БД, нормальный человек на все бы плюнул и забыл бы об этом дурацком театре. Но Костя был человек упрямый — упрямство передалось ему от его красного прадеда, обладавшего железным здоровьем и не менее железным характером. Необычайное упрямство прадед передал и своей дочери — костиной бабке, и самому Косте. Костиной матери оно тоже досталось, но не в полной мере — иногда она была вполне покладистой, а иногда упиралась так, что разве только ее дед и мог бы ее переспорить. Сам покойник был так уперт, что, отсидев в лагерях безвылазно с сорокового по пятьдесят третий, остался правоверным сталинистом и до последних дней (а он прожил долгую жизнь — с тысяча девятисотого по восемьдесят шестой) утверждал, будто финская война на самом деле была гражданской войной в Финляндии, а Советский союз просто помогал «красным финнам». Правда, Берию прадед (как, впрочем, и многие сталинисты) терпеть не мог и твердо верил, что без вмешательства последнего Иосиф Виссарионович прожил бы, по крайней мере, лет на десять дольше.
Кроме упрямства прадед привил Косте еще одну особенность — терпимое отношение к сталинистам — на его примере Костя убедился, что среди последних могут быть люди вполне нормальные во всем, что не касается непосредственно имени Сталина. Сочетание этих качеств привело Эллина второго октября на стык Садового кольца и Арбата.
На Садовом митинговали трудороссы. Их собралась уже порядочная толпа. Неподалеку выстроилось с полсотни спецназовцев в черных беретах — подобного добра теперь всегда было полно там, где собирались трудороссы. Потом вдруг все как-то резко изменилось. Толпа дрогнула, подалась в сторону Арбата и побежала, увлекая за собой Костю, а сзади на нее мощной волной накатывался спецназ. Дубася людей своими мастурбаторами, стражи порядка загнали толпу на Арбат, попутно сбив с ног, или, вернее, с костылей и насмерть затоптав ботинками какого-то пожилого бедолагу-инвалида, невесть зачем притащившегося на митинг.
Спасаясь от дубинок, трудороссы полезли на только что построенную сцену, сооруженную для празднования пятисотлетия Арбата. Спецназ рванул за ними, и тут ситуация снова резко изменилась. Костя вдруг заметил, что народ больше не убегает, и, оглянувшись, увидел, что спецназовцы лезут на сцену, а трудороссы отбиваются от них палками и кусками арматуры, то ли припасенными заранее, то ли подобранными тут же на сцене. Драка была жестокой и короткой — спецназ отступил, оставив сцену за трудороссами. Через минуту атакующие появились вновь. Теперь в руках у них были не только дубинки, но и щиты, на головах — шлемы.
Костя понял, что в этот раз арматурой не отбиться, и, как теперь быть, он не знал. Но знал кто-то другой — из толпы в сторону спецназа вылетел камень. Костя тоже кинул в наступающих кусок кирпича, но сей снаряд плюхнулся сразу же за сценой. Странное дело — Костя мог палку или бутылку забросить хоть к чорту на рога и плоским камешком «испечь» на воде не один и не два-три, а пять-семь «блинов», а вот нормально бросить обычный бульник ему было не под силу. Поэтому, если от костиного кирпича и была какая польза, так только в том, что он окончательно разрешил вопрос: «Что делать?» — целая туча камней полетела в спецназовцев. Потерпев фиаско с камнем, Костя поискал глазами какую-нибудь палку. Палки он не нашел, зато обнаружил нечто более ценное — четвертьлитровую пивную бутылку. Брошенная Костей бутылка пролетела над большей частью спецназовцев и разбилась о чей-то шлем в последнем ряду. После второго залпа мозги костоломов заработали лучше, и в третий раз град камней и железяк обрушился уже на отступающих. Костя успел засветить в чей-то щит куском арматуры длиной с ладонь и толщиной в палец и поднять с помоста еще одну бутылку — на сей раз из под водки. К этому времени спецназовцы отошли так далеко, что забрасывать их не имело смысла.
Однако народ уже разошелся и не мог остановиться. Толпа хлынула на Садовое, прихватив с собой доски со сцены, заборы с других строек и даже прилавки из ремонтируемого по соседству магазина. Костя, сунув бутылку в карман — на всякий пожарный, тоже приволок какую-то урну. Несмотря на стихийность, народ действовал на удивление слаженно. Мгновенно движение на кольце было перекрыто. Поперек улицы выросли две баррикады из дерева, железа и автомобильных покрышек. Потом трудороссам этого показалось мало, и они увеличили свою территорию, соорудив еще один вал. В искусстве фортификации здешние повстанцы превзошли защитников БД — баррикады возвышались над дорогой метра на два.
Но, видимо, кому-то и это показалось недостаточным. И тогда сразу в нескольких местах баррикады были подожжены. Запылали деревянные ящики из под овощей, на которых обычно сидят торговцы на рынках; завоняли, коптя черным дымом, резиновые шины. Между двумя огненными стенами, как черти с кочергами, бесновались злые пролетарии с кусками арматуры.
К месту стычки прикатило на автобусах по нескольку сотен обычных ментов и омоновцев да штук шесть пожарок с водометами, но баррикады никто не атаковал. Менты и ОМОН оцепили с трех сторон территорию, занятую трудороссами, и блеск огня отражался в их щитах. Десяток подъехавших карет «Скорой» стоял без дела. Снаружи трудороссы пробирались к своим через метро и дворами.
Активность обороняющихся, впрочем, тоже потихоньку начала спадать. Было ясно, что выбить их с баррикады — дело непростое, но и нарываться на драку с прекрасно экипированным противником, имея в лучшем случае двукратный, а в худшем — полуторократный перевес, да еще, когда у противника несколько пожарных машин, было бы просто безумием. К тому же мирное поведение милиции и ОМОНа расслабляло. Трудороссы спокойно расхаживали по «освобожденной территории», небрежно помахивая своими железяками.
От огня становилось жарко, и Костя вдруг заметил, что погода — уже совсем не та, что была неделю назад, когда люди мокли и ежились у костров возле БД. Нет, погода теперь стояла прекрасная, да и, вообще, многое изменилось за то время, пока Эллин ползал, как крот, по подземелью. Люди как будто распрямились, стали крепче, увереннее. «Бросайте больше ящиков и досок в костер! — говорил кто-то за спиной Эллина. — Это пламя видят депутаты из окон осажденного Верховного Совета». И даже в этой глупой вере в тех, кто уже давно продал своих почитателей, было что-то возвышенно-романтическое.
Со сцены, с той самой сцены, на которой началась драка, и которая, в итоге, оказалась внутри оцепления, хоть ее и не прикрывали баррикады, выступали вожди. ОМОН их не трогал. Анпилов с Маляровым сменялись изредка кем-то еще, а по большей части — друг другом. Человек двести, вылезшие из-за баррикад и слушавшие выступающих, время от времени скандировали: «ОМОН — домой!» Оставшиеся на баррикадах ждали дальнейшего развития событий.
Какой-то довольный тип успокаивал Игоря Донского: «Да ты не огорчайся, пойми — создавать приятнее, чем разрушать! Будьте вы с русским народом! Ну что вам эта с…аная Америка?!»
* * *
В самый разгар драки на Арбате к одному из буржуйских магазинов, которых на Арбате уже тогда было полным-полно, подкатила «тачка», и из нее вылезла чета «новых русских». Пара направлялась в магазин, но не успела она пройти и полпути, как подскочили спецназовцы и начали охаживать незадачливых покупателей, загоняя их обратно в машину.
- Вы что? — закричали бедолаги. — Мы — за Ельцина!
- А мы — против! — отвечали спецназовцы, орудуя дубинками.
* * *
Петя Рябов, придя на Смоленскую, забыл, кто он такой, и принялся помогать сооружать баррикады. Подоспевшие Трусевич, Майсурян и Лозован вытряхнули у него из карманов камни, надели на петину руку повязку с красным крестом и утащили Рябова к киоску, над которым развевалось белое краснокрестное знамя.
Кроме знамени у дружины поначалу не было ничего из того, что полагается иметь санитарному отряду, но этот огрех быстро исправлялся. Трудороссы, стоявшие поближе к медпункту, уже передавали на него медикаменты и деньги. Отправленный в экспедицию по аптекам Лозован притащил бинты, вату и спирт. Дружинники развели костер и на всякий пожарный изучали пути отхода.
Майсурян сбегал за оцепление к машинам Скорой, чтобы договориться о совместных действиях, но, подойдя к машинам, увидел в них ментов в белых халатах поверх формы. Менты, впрочем, пообещали Майсуряну в случае кровопускания помогать всем раненым без разбора.
По счастью, Майсуряну не пришлось проверить правдивость ментовского обещания. В этот вечер сандружинникам довелось лицезреть лишь двух пациентов: один рассадил себе руку при строительстве баррикады, другой просто оказался в задницу пьян. К слову сказать, это был единственный пьяный в тот день и в том месте.
* * *
Косте скоро наскучило слушать вождей, призывающих в основном трудороссов «стоять до конца», а омоновцев — уезжать домой, потому как у москвичей «со своей милицией хорошие отношения» (последнего убеждения Костя, кстати, не разделял). Народу набралось уже тысячи полторы, но особой активности он теперь не проявлял, только некоторые из слушателей скандировали: «ОМОН — на картошку!» На лицах собравшихся была написана мрачная решимость «стоять до конца», но осаждающие никаких активных действий не предпринимали, проявлять собственную инициативу, когда рядом вожди, было как-то не с руки, а вожди никаких указаний не давали и только полоскали мозги. Подумав, Эллин решил зря время не терять, попытаться пока найти кого-нибудь из знакомых — может Шишигу, а может — кого из бийцевиков. Он пошел вдоль дороги — от одной баррикады к другой и вдруг носом к носу столкнулся с Маркеловым.
— Привет! — сказал Эллин. — Ты тут сам по себе, или записан куда?
— Да я тут в сандружине, — отвечал Стас, демонстрируя нарукавную повязку, на которую Костя на радостях не обратил внимания. — Мы раненых перевязываем.
— Да? — удивился Эллин. — и много перевязали?
— Да пока, к счастью, только одного.
— А вас самих сколько?
— Не знаю, — сказал Стас, — я сам только что вступил. Человек десять примерно. Вот мы — все здесь, — он показал на небольшую группу, жгущую отдельный костер возле киоска. На киоске было укреплено белое знамя с красным крестом.
— Многовато для одного раненого! — усмехнулся Эллин.
— Мы ж точно не знали, сколько их будет. А потом, как бы, не в этом дело. Мы — вроде как, и сами по себе, и хорошее дело делаем.
— Понятно, — сказал Эллин. — У вас там все — левые социал-демократы?
— Да нет, — пояснил Маркелов, — из ЛСД — один только я. Я ж говорю, я только вступил. А так тут все есть: анархисты, народники, комсомольцы…
— Анархисты? — удивился Костя. — Я видел одного анархиста у Белого дома. Только он теперь сидит — порезал баркашевца.
— Уже не сидит, — заметил невысокий носатый сандружинник, смахивающий на молдаванина. — Его вытащили.
— Как смогли? — удивился Костя.
Носатый пожал плечами:
— Не знаю. Удалось как-то.
— А троцкистов у вас нету? — поинтересовался Эллин.
— Нет, — ответил носатый. — А ты что, троцкист?
— Да нет, — сказал Костя, — просто я тут пару раз пробирался с троцкистами в Белый дом. А так я — сам по себе, пока не нашел, куда приткнуться.
— Притыкайся к нам! — предложил носатый и повернулся к Маркелову:
— Как, можно его взять?
* * *
К вечеру напряжение на Смоленке стало спадать. Часов в пять или в начале шестого со сцены-трибуны кто-то радостно объявил: «Достигнута договоренность: бандитов в черных беретах, которые начали драку, уведут, а мы сдадим председателю Моссовета Гончару двенадцать бутылок с горючей смесью». Трудороссы встретили сообщение без особого энтузиазма. Вскоре исчез Анпилов, успев получить от кого-то из выступавших поздравление с днем рождения. Выступавший теперь больше всех Маляров призывал то вступать «в постоянно действующие организации» — «ТрудРоссию», ФНС, российский комсомол и прочие, то «завтра прийти пораньше на Вече и приступить к решительным действиям», то, вдруг вспомнив, что сцена не прикрыта, приказал строить еще одну баррикаду…
Где-то без двадцати восемь депутат Уражцев сообщил, что удалось договориться с начальником оцепления полковником Фекличевым — до девяти демонстрантов никто не тронет, а после всем им надлежит разойтись. Народ завозмущался, раздались крики: «Пусть уйдет ОМОН, тогда и мы уйдем!», «Не уходить, стоять до конца!», но чувствовалось, что, как говаривал Горби, «процесс пошел». Митинг как-то сам собой прекратился, Уражцев, Маляров и другие уговаривали народ разойтись после девяти, приводя все больше один, зато весьма логичный довод — все равно останутся не все, а только самые стойкие, их-то ночью и перебьют.
В девять большая часть митингующих выстроилась в колонну с Константиновым во главе и ушла по Арбату. Маляров с несколькими комсомольцами постепенно уговорили разойтись остальных.
* * *
Вернувшись к Тамаре, Костя вдруг вспомнил, что он уже недели две не наведывался и не звонил в Люберцы. «Надо б звякнуть, — решил Эллин, — а то подумают невесть что — в такое-то время».
Набрав номер, Эллин услышал гудки, а затем — голос брата.
— Алло, привет, Витек! — сказал Эллин. — Это я — Костя.
— Привет! — отвечал брат. — Как там у тебя?
— Нормально, — успокоил Костя. — Я собственно для того и звоню, чтоб сказать, что у меня — все нормально. Я, правда, сейчас не у тети Веры, а у… — Костя на секунду замялся, — у подруги, так что мне звонить не надо, я сам буду звонить.
— У Ксении, что ли? — поинтересовался брат.
— Нет, — ответил Костя. — У другой.
— Понятно… — протянул брат. — Как ее зовут-то?
— Кого? — не понял Костя.
— Ну подругу.
— Тамара, — ответил Костя.
— Грузинка?
— Нет, русская, из подмосковной деревни.
— Понятно… — снова протянул брат.
Косте братова интонация не понравилась. «Совсем обнаглел братец! — подумал он. — И вопросы какие-то дурацкие задает. Приеду, надо будет дать подзатыльник».
— Что тебе понятно? — недовольно спросил он в трубку.
— Да так… — брат хмыкнул. — Видели мы тут тебя по ящику с твоей подругой.
— Что за чушь? — удивился Костя. — Не могли меня показать с Тамарой!
— Видели-видели! — усмехнулся брат. — Ты прям, как в песне: «Только шашка казаку во степи подруга!» Твоя, значит, подруга — боевая бутылка?
— Приеду — получишь по мозгам! — разозлился Эллин. — Что, если я живу у подруги, я не могу оказаться на улице с бутылкой в руке?
— Ладно, не злись! Ты, значит, теперь — защитник Белого дома?
— Нет, я с ними был временно. А вообще я — сам по себе.
— Как батька Махно?
— Пожалуй.
— Понятно, — брат снова усмехнулся. — Ну ладно, только смотри! Знаешь, как кончил батька Махно?
— Знаю, — ответил Костя. — Он получил четырнадцать ран, ушел за границу, оклемался, но к тому времени его людей задавили, и он так и не смог вернуться. Умер в Париже, похоронен на кладбище Пер-Лашез.
Брат на другом конце аж присвистнул.
— Откуда ты все это знаешь?
«От верблюда!» — хотел, было, ответить Костя, но ему это показалось невежливым по отношению к Трофименко, и он просто ответил:
— От одного анархиста. Он был у Белого дома. Между прочим — ксеньин брат.
— Там что и анархисты есть? — удивился Витек. — Или они тоже — как батька Махно?
— Тоже, — лаконично ответил Костя. — Кроме тебя там есть кто-нибудь?
Дома, несмотря на субботу и поздний час, никого больше не оказалось — мать задерживалась на дежурстве, и отчим пошел ее встречать. Костя решил заканчивать разговор.
— Я позвоню на днях, — заверил он на прощанье. — Завтра или послезавтра.
И не втягиваясь в дальнейшую беседу, повесил трубку.
* * *
Мохов ко второму был здоров как бык, и, не будь второе субботой, его бы точно выписали. Но в выходные обычно никого не выписывают, так что выписка была назначена на понедельник, и Мохову оставалось только ждать. Это было непросто, особенно когда Мохов из разговоров своих соседей понял, что в центре уже начались баррикадные бои; но выхода не было.
* * *
Положив трубку, Эллин на минуту задумался, глядя в черный прямоугольник окна. Тамара подошла к Косте сзади и обняла его за шею.
— Ну, — спросила она, — куда завтра пойдешь?
— Завтра я с сандружиной пойду, — ответил Костя. — Раненых подбирать.
— А много там раненых? — заинтересовалась Тамара.
— Пока был только один. Но если так дальше пойдет, то скоро будет больше. Странно, что уже сегодня больше не было.
— Слушай, — спросила Тамара, — а чья это сандружина?
— Ничья, — ответил Костя. — Мы — сами по себе. Просто будем помогать всем пострадавшим. Хоть от тех, хоть от тех.
— Да, за это вам медалей не дадут, — усмехнулась Тамара. — Ладно, не дуйся, ты же знаешь, что ты мне нужен безо всякой медали! Много вас там?
— Человек десять.
— А-а, десять тех, что должны быть первыми!
Костя промолчал. Тамара чмокнула его в щеку.
— Не сердись! Мне даже нравится, что ты такой. Знаешь, у нас в деревне был мужик один, на тебя похожий — Иван Смени ногу. Ему раз говорят: «Иван! Ты, наверное, в армии всегда не в ногу ходил!» А он и отвечает: «Нет, ходил я в ногу, но когда нужно было сменить ногу, я это первый делал». С тех пор его так и прозвали. Не любили его многие, здорово не любили, но зато уважали. Даже те, кто не любил, все равно уважали. — Тамара засмеялась. — И тоже, как ты, был вояка. И в гражданскую успел повоевать, и в Отечественную ушел добровольцем. А дед у него еще с декабристами на площадь выходил. Он сам, дед-то, простой солдат был, ему сказали, что службу вдвое сократят (а тогда двадцать пять лет служили), он и вышел.
— Знаю, — усмехнулся Костя, — «За императора Константина и его жену Конституцию!» — и вдруг переспросил. — Погоди, если его деду было тогда хотя бы двадцать, то сколько ж ему было? Ну, когда ты его видела. Лет сто что ли?
— Зачем сто? — удивилась Тамара. — Он в шестьдесят третьем только пенсию стал получать. Просто у него с дедом — в сто лет разница. Отцу было пятьдесят, когда он родился, и деду — пятьдесят, когда родился отец. А что, раньше ведь мужики запросто в пятьдесят лет отцами становились, и бабы в сорок рожали. Это теперь в тридцать пять — уже поздно считается. Хочешь — от тебя рожу? А что, мне алиментов не надо, мне мужики столько всего надарили — как раз хватит!
— Эт что же, — рассмеялся Костя, — выходит ребенок будет от одного, а алименты — от другого?
— А какая разница? А если б я от них залетела? Я что, не рисковала? Ты думаешь, почему бабы с мужиков деньги берут, а не наоборот? То есть, конечно, бывает и наоборот, но чаще — бабы. Потому что бабы залетают, а мужикам — по фигу. Я, кстати, никогда специально не просила, если что дарили — брала, деньги тоже брала, если давали, но этого я не любила. Это на меня как-то Семеновна наехала (ты ее не знаешь, она лет пять, как уволилась), ты мол — такая-сякая, проститутка, б…дь! А я ей говорю: «Ты сама своего мужа ни хрена не любишь, ты за него вышла, чтобы было, кому детей кормить, значит, ты за него из-за денег вышла, значит ты сама — такая же проститутка, и нечего на меня бочки катить! А что я — еще и б…дь, так это — мое личное дело». Правильно я говорю?
* * *
Промучившись весь вечер, Мохов не выдержал и ночью выбрался через окно, да как был — в пижаме и шлепанцах, рванул домой, благо, от больницы до дома ему было рукой подать. Дважды он чуть не нарвался на ментов, и ему пришлось залегать в кустах у дороги. В четыре утра с копейками Мохов, стучащий зубами от холода, ввалился домой, до предела удивив мать, которая хоть и знала о политических взглядах сына (да, кстати, и сама состояла в РКРП), однако ж, никак не ожидала от него такой прыти.
* * *
Дамье утром третьего успел побывать на втором уже собрании под названием «Интеллегенция в защиту демократии против авториторизма», проходившем на Тверской в Музее восковых фигур. Там Дамье попытался убедить собравшихся, что защитникам БД нужно порвать с баркашами и отказаться от их помощи. «Они же вас же дискредитируют, — объяснял Дамье. — Вы, вроде как, демократию защищаете, выступаете на стороне парламента, и вдруг у вас там ходят люди со свастикой…»
На интеллегентов речь Дамье не возымела действия. «Нам нужно национальное единство», — заявили они. «Русское?» — поинтересовался Дамье. «Русское», — отвечали интеллигенты. Дамье пожал плечами.
* * *
Эллин выбрался из тамариной квартиры в без пяти одиннадцать. На этот раз Погудина не только не пыталась его отговорить, но и по просьбе Кости выделила ему бинт и несколько пачек ваты, которой у нее, как у всякой нормальной женщины, было полно, потому что о тампаксах тогда еще не слыхали. Сверх того Тамара презентовала Косте десятка два упакованных в полиэтиленовые пакеты свежеприготовленных оладьев (пояснив, что это — лучше любых бутербродов и котлет — и сытно, и не портится) и чудовищных размеров скальпель в кожаном чехле — на всякий пожарный. Лезвие у скальпеля было никак не меньше десяти сантиметров, и ручка — соответствующая, так что Эллин еле запихнул его в карман. Скальпель лет двадцать назад свистнула из какой-то больницы тамарина подруга — медичка; точнее, свистнула она два скальпеля: один — для себя, другой — для Тамары, потому что, если каждому давать, то сломается кровать, а некоторые мужики этого не понимают.
— Ты только не пропадай! — попросила Тамара на прощанье. — Если вечером не придешь — позвони. А то опять пропадешь на неделю, а я буду думать, то ли с тобой чо случилось, то ли ты себе молодую б…дь нашел. Они, санитарки, знаешь какие бывают!
— Знаю, — ответил Эллин, — у самого мать в больнице работает. Так что, не надо лапшу на уши вешать. Обычные женщины, не лучше других и не хуже.
— А хоть бы и обычные, — не унималась Тамара. — Обычные тоже разные бывают. Потом они — молодые, а я — старая — сиськи до п…ды висят. Ты смотри, молодая тебе оладьев не напечет!
Костя понял, что Тамара дурачится, но времени на шутки у него уже не было, поэтому он пообещал не пропадать, рассовал по карманам куртки скальпель, еду, бинты и вату, так что карманы раздуло, будто морской спасжилет, и, расцеловавшись на прощание с Тамарой, вышел на улицу.
* * *
Петя Рябов со свернутым флагом выходил из метро, когда к нему подошел какой-то средних лет человек, довольно интеллигентной внешности и похвалил:
— Молодец! За свое будущее надо бороться!
— Да мы, вообще-то, не боремся, — смутился Рябов, — мы раненых перевязываем.
— Ничего-ничего, — успокоил собеседник, — методы могут быть разные, но цель у нас — одна.
И помолчав, добавил:
— Жидов извести.
* * *
Демонстрация оппозиции планировалась на Советской площади — напротив Моссовета. Здесь поначалу и собирался народ. Но то ли слишком близко это было от БД или от Кремля, то ли еще что-то, только среди собравшихся пронесся слух, что демонстрация перенесена на Октябрьскую. Полоумные бабки, молодые парни из трудороссовской дружины, женщины с колясками (какого чорта они потащились с колясками на демонстрацию?) — все полезли в метро.
* * *
ОМОН оцепил Октябрьскую площадь задолго до появления трудороссов. Перебравшиеся сюда с Советской со своим флагом волошинцы, старавшиеся держаться отдельно от демонстрантов, не могли найти, куда приткнуться — отовсюду гоняли. Пришлось подойти поближе к анпиловцам. Какая-то бабка долго смотрела на странный флаг и на краснокрестные повязки сандружинников, потом, наконец, подошла и спросила волошинцев, за кого они — за Совет или за Ельцина. «За раненых», — мрачно ответил Эллин.
За прошедшие неполные сутки ряды волошинцев значительно пополнились — кроме Стаса и Кости к ним присоединилась еще куча самого разного народа, начиная от комсомолки Ирки Федоровой, такой же толстой и веселой, как Тамара, только более курносой и не светло-золотистой, а русой, и кончая ДСовцем Гришей Воробьевым по прозвищу Нирмал. Появился даже какой-то ельцинист, разочаровавшийся в своем кумире. Самым ценным было то, что присоединилось несколько медиков — меморалец Тавризов, ушедший в свое время с четвертого курса мединститута, врач «Скорой» Володя Потапов и некий Андрей, фамилии которого никто не знал. Зато все знали, что Андрей приехал из Таджикистана, где ему все в том же качестве медика довелось принять участие в тамошних разборках, и откуда он только чудом выбрался живым и невредимым. Если других волошинцев омоновские дубинки еще могли испугать, то Андрею они после таджикских пуль и осколков казались детскими игрушками, а уж ран он насмотрелся таких, что волошинцам и не снились.
Теперь, благодаря Тавризову, Андрею и Потапову, сандружина стала более-менее оправдывать свое название. До сих пор единственными сандружинниками, имеющими какое-либо отношение к медицине, были Трусевич, окончившая медучилище, и Маркелов, изучавший у себя в университете судебную медицину.
* * *
Трудороссовская колонна, освещенная не по-осеннему ярким солнцем, вышла на Октябрьскую со стороны Ленинского проспекта. Вышла и уперлась в стену ОМОНа, перекрывшую ей путь к центру. Колонна потыкалась в омоновские щиты и вдруг повернула налево, в сторону Крымского моста. Теперь она шла по Садовому кольцу, единственной широкой дороге, оставленной ей; и дорога эта то ли случайно, то ли по чьей-то провокации вела трудороссов к Белому дому.
Шаг за шагом колонна увеличивала скорость. Сумасшедшие бабки, которых и без того было не так уж и много, оказались в задних рядах, здоровые крепкие мужики — в передних. Колонна подошла к мосту, и здесь ей преградил путь омоновский заслон. Тонкая линия блестящих металлических щитов вытянулась поперек дороги, как гитарная струна. Неделю назад такой заслон остановил бы демонстрантов без особого труда. Но теперь ситуация изменилась. Многие из тех, кто шел сейчас в колонне, уже побывали под дубинками, многие участвовали в стычке на Смоленке. Люди потеряли страх и приобрели злость. Поэтому движение колонны, хоть и начало замедляться, однако не прекратилось совсем, и расстояние между демонстрантами и ОМОНом все более сокращалось.
Омоновцы пустили на демонстрантов газ. У большинства трудороссов, естественно, никаких противогазов не было, но тут вмешалась природа — ветер разметал газовое облако и унес его вниз под мост. Теперь уже ничего не могло остановить столкновение. Омоновский офицер заорал в мегафон, требуя не нарушать порядок, и не доорал — струна натянулась под напором трудороссовской колонны и лопнула с печальным звоном, оборвав музыку офицерского ора.
* * *
С пустыря возле Дома художника перебравшиеся туда сандружинники наблюдали за происходящим. Демонстранты подошли к мосту. Раздался резкий хлопок, над толпой появилось желтое облако, и те из сандружинников, у кого были противогазы, почуствовав неладное, начали их натягивать. Дамье замотал физиономию палестинским платком. Но облако газа, действительно появившееся, ушло куда-то под мост. А потом волошинцы увидели такое, что кое-кто даже протер глаза. С моста по ступеням, как куча старых железяк, как консервные банки, катились омоновцы в своих доспехах. А в реку, как осенние листья, падали, планируя и кружась на ветру, прямоугольные щиты. Прорвав заслон, трудороссовская колонна рванулась дальше и понеслась вперед по дефлорированной улице, сшибаясь с ОМОНом и высекая искры, впервые за долгое время вылетавшие из глаз у ментов, да так быстро, что сандружина едва успела пристроиться ей в хвост.
Тут же стали попадаться первые раненые. Сперва пришлось помочь трудороссовской бабке, помятой в давке, и мужику с разбитой головой (постарался омоновец). Потом появилось несколько человек, задыхавшихся на бегу — наглотались-таки газа. Маркелов привел в чувство майора-мента. Трусевич перевязала трудороссовской бабке рассеченную руку. По пути колонна смела еще несколько заслонов, и раненых прибавилось. Стали попадаться брошенные омоновские автобусы с выбитыми стеклами, пустые; а затем и такие, в которых, дрожа от страха, сидели омоновцы. Народ был уже достаточно зол и церемониться с ними не собирался. Пару раз Леонтьеву пришлось вмешаться, чтобы удержать людей от самосуда. Один раз волошинцы увидели, как выходящих из автобуса стражей порядка прикрывают дружинники «ТрудРоссии». Попадались пустые пожарные машины, возле них дорогу покрывали огромные пятна пены.
Внезапно из толпы, разрезая ее надвое, вылетел грузовик и пронесся мимо сандружинников, только чудом не сбив никого из них. Через минуту, протолкнувшись сквозь толпу, волошинцы увидели лежащего на земле мужика — на этот раз не с разбитой головой, а с раздавленными ногами. Потапов с Андреем попытались ему помочь и сделали все, что от них зависело; но все было напрасно — мужик умер, не придя в сознание. Это была первая смерть в этот день.
Пока добрались до Садового кольца, толпа уже изрядно оторвалась, видны были только отдельные догоняющие. Какие-то типы на кольце раздавали листовки. Волошинцы взяли несколько штук. Листовка оказалась почему-то на английском языке и начиналась словами «Папа, убей еврея!»
Как было прорвано оцепление у БД, никто из сандружинников не видел. Когда они подошли, народ уже обнимался и резал проволоку на мелкие куски, как берлинскую стену, на память. Милицейская шеренга осталась только со стороны мэрии, битком набитой ОМОНом. Сандружина, по распоряжению Леонтьева, расположилась в самом конце Нового Арбата между массивным сталинским домом и автобусной остановкой, как раз напротив мэрии, отделенной от остановки проспектом.
Рябов с Тарасевичем отправились по квартирам с канистрой — просить воды. Дело это оказалось гиблое — жильцы боялись даже дверь приоткрыть. Ничего удивительного в этом не было — город, тем более такой огромный, как Москва, всегда был скопищем мошенников и грабителей, проявление нормальных человеческих чувств здесь нередко кончалось трагически, и некого было даже позвать на помощь в этом мире одиноких людей, отгороженных друг от друга каменными стенами. Поэтому бедные санитары обошли едва не весь дом, прежде чем какой-то старик, мывший во дворе машину, сжалился над ними и пустил их за водой в свою квартиру.
Едва водоносы вернулись на стоянку, как рядом началась стрельба. Потом говорили, что первые выстрелы были сделаны ОМОНом с крыши мэрии, и первыми жертвами оказались два мента, убитые пулями в спину. Но тогда волошинцам было не до того, чтобы выяснять, кто первый начал. Оказалось, что их позиция выбрана глупейшим образом. К чести Леонтьева — это была его единственная ошибка за время руководства сандружиной.
Как бы то ни было, но сандружинникам пришлось перебраться за угол. Здесь уже после боя они красно-коричневой (!) краской написали: «медпункт» и намалевали крест. Эта надпись с крестом еще несколько лет была видна на торце дома, что стоит напротив мэрии; следы истории стерли только в девяносто седьмом, когда Москву вылизывали к празднованию ее восьмисотпятидесятилетия.
* * *
Мэрию штурмовали офицеры и баркашевцы по личному приказу Руцкого. Некоторое время исход дела был непонятен — омоновцы палили из окон, штурмующие — по окнам. И вдруг откуда-то выехал грузовик с автоматчиками — членами Союза офицеров и, подкатив к мэрии, протаранил стеклянные стены фойе.
* * *
Волошинцы были буквально ошарашены, когда омоновцы, занимавшие мэрию, вдруг начали колотить дубинками по стеклам, а затем, разбив стену, всей оравой выскочили на улицу. Казалось, еще несколько секунд, и они начнут мутузить сандружинников, благо, дело привычное. Эллин и Нирмал даже схватились — один за тамарин скальпель, другой за валявшийся поблизости кирпич. Но грозные костоломы, выскочив из мэрии, просто разбежались кто куда, вульгарно спасая свои шкуры. При виде такого зрелища Костя с Нирмалом, забыв о своем нейтралитете, бросились к мэрии. Туда же рванулась было Федорова, но ее удержали, убедив в том, что даже для победы коммунизма она здесь нужнее.
* * *
Репортеры с телекамерами подбежали к мэрии как только прекратилась стрельба из окон. Дело свое они знали, и самые колоритные моменты сохранились для истории. В один из объективов попал лежащий на асфальте мент, над которым склонилась Трусевич. Этот эпизод потом кому-то пришелся по вкусу, и его не раз и не два крутили по телевидению. Подобные кадры должны были свидетельствовать о жестокости «красно-коричневых», в этом свете их демонстрировали, в этом духе комментировали. Героем кадра стал лежащий ментяра. И ни в одном из комментариев не ставился вопрос и не давался ответ, кто же — та молодая женщина, перевязывающая поверженного стража порядка?
* * *
Дима Стариков, ворвавшись в мэрию, первым делом направился в буфет, где отведал шампанского и бутербродов с колбасой и ветчиной. Продукция, что и говорить, оказалась первосортной — Стариков остался доволен. Это не было мародерством — старый ДСовец выпил и съел ровно столько, сколько требовал в данную минуту его организм, реализовав таким образом коммунистический принцип «каждому — по потребностям», хотя сам был, по сути дела, всего-навсего социал-демократом.
* * *
Батон и Алик, пошастав по коридорам, заскочили в какую-то комнату, где Батон первым делом разворотил стоящий на столе компьютер и извлек из него модем, видеокарту и блоки оперативной памяти, а Алик тем временем пошарил по ящикам столов. Но как следует поживиться им не дали. В комнате появился мужик в строительной каске, вооруженный ножкой от стула, и спросил у пацанов, что они тут делают. Батон послал мужика по адресу, но и сам задерживаться не стал и выскочил из комнаты, прихватив с собой Алика. Пацаны наведались еще в пару комнат, но по коридорам уже бегали какие-то типы с автоматами, и, увидев, как эти типы заламывают кому-то руки и волокут его к выходу, Батон с Аликом быстро слиняли, решив, что от добра добра не ищут.
У выхода из мэрии они увидели автоматчиков, которые только что вытащили из здания высокого парня с длинными светлыми волосами, а теперь извинялись перед ним, объясняя, что они просто не разглядели его повязку, а иначе бы никто его пальцем не тронул, потому как к санитарам тут все относятся с уважением. Не желая связываться с автоматчиками, Батон и Алик покинули мэрию через разбитую омоновцами стеклянную стену. По дороге к ним прицепился какой-то тип с омоновским щитом и резиновой дубинкой в руках, но, услышав волшебное слово «санитары», оставил пацанов в покое.
* * *
Когда все видимые раненые были перевязаны, и напряжение спало, волошинцы притащили к БД складной столик и разложили на нем свой нехитрый набор лекарств. Похвастаться было особо нечем — сандружина делалась в основном в расчете на синяки и шишки, а не на пулевые раны. Мало кто мог предположить, что предстоит что-либо более серьезное, чем драка на Смоленке. Но дареному коню в зубы не смотрят, да, к тому же, на безрыбье, как известно, и рак становится рыбой. К столику постепенно начал сходится народ.
Вскоре сандружина восстановила свою численность. Из мэрии, словно вражескими скальпами, радостно потрясая омоновскими беретами, прибежал Нирмал. Эллин вернулся без трофеев. Его не интересовали головные уборы.
* * *
Во дворе за оставленной ОМОНом мэрией штурмующие обнаружили брошенные стражами порядка автобусы. Разбежавшиеся омоновцы оставили на месте даже ключи зажигания, так что машины ничего не стоило завести. Потом, гораздо позже, говорили, что это было сделано специально, и спорили, было ли это провокацией, или среди омоновцев нашлись сочувствующие сторонникам БД. Тогда об этом никто не думал. Тогда победители радовались своим трофеям.
* * *
Чулин — в черной рубашке, но без шеврона со свастикой подошел к столику с лекарствами. Его знобило.
— Простите, у вас случайно нет аспирина? — осведомился он.
— Вообще-то, это для раненых, — смутилась Трусевич, сидящая за столиком, — но если вам очень нужно…
— Спасибо! — поблагодарил Чулин, забирая аспирин. — У меня — как раз ножевая рана.
* * *
Леонтьев, пробравшись к зданию БД, попросил объявить по репродуктору просьбу о наборе в сандружину врачей-добровольцев. Такие вскоре нашлись — две женщины-врачихи, одна из которых была фанатичной руцкисткой, а другая — трудоросской, и молодой трудоросс по фамилии Четвертов; Леонтьев всех троих отправил к медпункту. Мимо Леонтьева провели колонну солдат — не то пленных, не то перешедших на сторону ВС — говорили разное. Какие-то люди с автоматами в руках садились в грузовики и куда-то уезжали. Говорили, что в Останкино. В ликующей толпе Леонтьев заметил сандружинников Саню Соколова, Ника Шеронина и некого Хэда — все трое уезжали с грузовиками.
С несколькими санитарами и фельдшером Леонтьев прошел в мэрию. Здесь распоряжались какой-то генерал в черной форме и баркаши. Одному из них перевязали поврежденную голень. Где-то в коридорах промелькнул, как показалось Леонтьеву, Боря Эскин. Бой уже явно закончился, и делать в мэрии было особо нечего.
* * *
Игорь Донской — высокий, костлявый, нескладный, в роговых очках молча смотрел, как грузился в автобусы народ, собравшийся брать Останкино. Человек десять или, может, пятнадцать, одетых в камуфляж, с автоматами в руках садились в грузовик. Это были члены Союза офицеров. Еще один такой грузовик, крытый брезентом и с надписью «Люди», стоял рядом. Зато в брошенные ОМОНом автобусы набиралась простая трудороссовская рать, отличавшаяся от офицеров по своему вооружению, как средневековая крестьянская пехота от рыцарской кавалерии. Тут не то что автоматами — и пистолетами не пахло. Оружием трудоросса служило какое-нибудь ударное орудие: толстый металлический прут, обрезок трубы, ножка от табуретки, а то — просто палка; часто это была ментовская дубинка, добытая при прорыве блокады или штурме мэрии, а иногда — и в более ранних схватках: 1-го мая или при прошлогодней осаде Останкино. У многих были ментовские щиты или каски, а у некоторых — и бронежилеты. Бутылок с бензином Донской не видел, но знал, что у кого-то они, видимо, есть, наверняка, есть! Кое у кого были сумки с противогазами. И еще кто-то, может быть, напихал себе в карманы камней или железяк. Автобусов, впрочем, на всех не хватало, и многие из трудороссов решили добираться до Останкино своим ходом.
Этим двум-трем десяткам автоматчиков и двум-трем тысячам мужиков с дубинами предстояло взять телецентр.
С военной точки зрения этот поход был абсолютно бессмысленным. Самым логичным в подобной ситуации было бы сперва вооружить народ, разоружив милицейские посты и отделения. Но это превратило бы толпу, «завязанную» на вождя, во множество более мелких, но и более организованных автономных групп. От любой такой группы из десяти или даже пяти человек, узнавших друг друга в совместных действиях, да к тому же еще и вооруженных, было бы больше толку, чем от сотни обычных трудороссов, неспособных в отсутствие Анпилова ни к каким организованным действиям. Но, вместе с тем, таким группам не нужен стал бы и сам Анпилов. Вернее, он был бы необходим, как знамя, но на деле члены групп подчинялись бы своим командирам, выбранным ими самими или выдвинувшимся стихийно в ходе боевых операций, а при необходимости объединиться выбирали бы старших командиров опять-таки из своей среды.
Такие отряды были бы еще более неконтролируемы, чем дружина, командир которой Виктор Михалыч Петров мог при случае пойти и против воли Виктора Иваныча. Три года Анпилов создавал свою личную армию под названием «Трудовая Россия», и теперь совсем не хотел, чтобы она превратилась в лучшем случае в армию Петрова, а в худшем и вовсе — в армию какого-нибудь Иванова или Сидорова, которому вообще, может быть, наплевать на Анпилова.
Разумеется, Виктор Иваныч был бы не против, если б Верховный Совет или Руцкой роздали его людям автоматы. Это бы только укрепило его авторитет. Но ни Руцкой, ни ВС не горели желанием укреплять авторитет Анпилова, приказать же трудороссам вооружаться самим означало подтолкнуть их к самоорганизации, к проявлению низовой инициативы, а самоорганизации и низовой инициативы Анпилов как любой бюрократ боялся пуще огня. Организованный народ был для него в сто раз страшнее правительственной армии.
Фактически трудороссы уже сделали для Анпилова все полезное, что только могли. Дальнейшая их активность могла ему только вредить. От трудороссов теперь требовалось бездействие, а не действие. Но заведенная толпа не могла сразу остановиться, как не может мгновенно затормозить разогнавшийся автомобиль. Армию нельзя было просто оставить митинговать у Белого дома, армия требовала для себя действия, ее надо было чем-то занять. И Анпилов занял ее походом на Останкино.