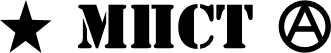* * *
Эллину крупно не повезло. Когда дружина начала делиться, он хотел, было, прибиться к Стасу, но на какую-то секунду оказался один, да еще и позади всех. Этого оказалось достаточно, чтобы на него неведомо откуда выскочила какая-то полоумная бабка, которая, увидев на костином рукаве медицинскую повязку, буквально вцепилась в Эллина и стала его упрашивать пойти помочь ее внучке — та, по словам бабки, уже неделю, как простудилась, и все никак не выздоровеет.
Объяснить бабке, что-либо было невозможно — у нее явно были не все дома, а позвать кого-то из новых товарищей на помощь Косте было неудобно. Короче говоря, когда минут через пятнадцать он отвязался, наконец, от назойливой старухи, никого из сандружинников поблизости уже не было. Пробормотав со вздохом: «Отряд не заметил потери бойца», — Костя в гордом одиночестве направился к Садовому кольцу.
Добравшись до кольца, он попытался, было, сразу перейти на другую сторону, однако скоро понял, что это — не только бесполезно, но и небезопасно. Тогда он отошел по кольцу в сторону Маяковки, подальше от патрулей и начал обдумывать ситуацию.
Ситуация вырисовывалась следующая: либо к Белому дому все же можно добраться со стороны центра, либо нет. В последнем случае надо не маяться дурью, а обходить БД с какой-нибудь другой стороны. Но и в первом случае, как ни странно, выходило так, что лучше не лезть отсюда, а попытаться обойти со стороны зоопарка, а лучше и вовсе со стороны окраины. Потому что волошинцы двигались к БД от центра, и если с этой стороны все-таки есть проход, они все, скорей всего, и прошли или пройдут отсюда, а с противоположной стороны к БД никто из них не подойдет. Сделав такой вывод, Эллин решил как следует обогнуть БД и сначала отступил к Маяковке, а затем по Тверской вышел к Белорусскому вокзалу.
Отсюда ничего не стоило обогнуть БДшные окрестности по Грузинскому и Пресненскому валам — любой, хорошо знающий этот район, на месте Кости так бы и сделал. Но Эллин знал Москву не больно хорошо; точнее, он хорошо, как свои пять пальцев, знал только небольшой кусок окраины, протянувшийся от Битцевского лесопарка до станции метро «Юго-Западная», или, вернее, до МИРЭА, да еще один кусок в центре между «Ногой», устьем Яузы и Серебрянической набережной, где находилась 2-я Красильно-отделочная фабрика, да еще, может быть, пару-тройку мест; всю остальную Москву он знал плохо или не знал вообще. Однако за время общения с Бийцем Костя успел усвоить, что расстояние между станциями метро «Сокол» и Октябрьское поле» не больше, чем между станцией «Беляево» и домом Ксении. Поэтому он, не долго думая, спустился в метро и доехал до «Сокола», а оттуда направился к «Октябрьскому полю».
Здесь он заскочил к Бийцу и попытался сагитировать последнего на создание еще одного санотряда, но эта идея не вызвала энтузиазма у вождя троцкистов. Оставив Бийца в покое, Эллин доехал до «Беговой» и оттуда стал пробираться к Белому дому, полагаясь в поисках пути в основном на свою интуицию.
* * *
Трофименко появился у БД в самое время боя. Первоначальное истребление безоружных и полубезоружных защитников было уже закончено, и теперь шел планомерный обстрел здания.
Одетый в ту же светлую куртку, что и в первую ночь «противостояния» Трофименко пришел со стороны набережной. Он добрался на метро до «Парка культуры», до которого поезда еще ходили, а дальше шел пешком мимо Киевского вокзала. У Новоарбатского моста ему попался на глаза первый раненый — мужик лет тридцати пяти весь в крови лежал в каменной нише под мостом. Посмотрев несколько секунд на раненого, Трофименко поднялся на мост и огляделся, оценивая обстановку.
Зрелище было паршивое. Белый дом горел. Со стороны реки напротив него стояла шеренга бронемашин, обстреливающая здание. Где-то до средних этажей Белый дом действительно был белым, а потом из окон начинали тянуться полосы черного дыма, и само здание становилось черным. Изредка в каком-нибудь окне сверкал огонек — стреляли из автомата. В ответ БМП шарахало из пушки; из окна вылетала куча бумажных листков, и они разлетались по ветру. Толпа, глазеющая на обстрел, выла от восторга и орала: «Давай! Так им и надо!» или что-нибудь подобное. Трофименко пожалел, что у него нет автомата.
На углах торчали менты и солдаты — все с автоматами в касках и бронежелетах. Они же сдерживали толпу, не давая ей слишком близко подойти к осажденному зданию.
Убедившись, что пробраться к БД с этой стороны невозможно, Трофименко решил обойти поле боя вокруг и посмотреть, нет ли где дыр в кольце осады.
До здания мэрии, вернее, до нижнего его яруса он добрался без препятствий. Никто ему не помешал. Правда, откуда-то постоянно стреляли, причем почему-то одиночными, казалось, что это кто-то бьет как раз по той части мостовой, по которой пошел Трофименко, может, потому она и была пустой — никто на ней не стоял, и даже ментов с солдатами тут не было. Но Трофименко не надо было стоять, он просто пересек этот участок быстрым шагом и, остановившись возле киоска, притулившегося к мэрской стене недалеко от угла, огляделся. Следом за ним или даже одновременно к мэрии начали перебегать вездесущие панки.
Пройти между мэрией и Белым домом было явно невозможно. Тогда Трофименко пошел вдоль стены, надеясь обойти мэрию вокруг. Сделать это было невозможно в принципе, ибо с другой стороны к мэрии примыкало американское посольство; но Трофименко плохо знал центр, а возвращаться назад, после рывка к мэрии на глазах у потенциального противника ему показалось небезопасным. Следом за Трофименко потянулись панки. Когда Трофименко отходил от киоска, они собрались возле угла. Когда прошел несколько шагов, панки перебрались к киоску.
Проходя мимо мэрии, Трофименко увидел за разбитыми окнами маскировочную сетку. За сеткой, в глубине сидело несколько типов в камуфляже, который настолько сливался с сеткой, что Трофименко с трудом мог различить фигуры сидевших; однако ж, он ясно видел их глаза. Глаза следили за ним. Трофименко усмехнулся про себя и пошел дальше. Нижний ярус мэрии плавно переходил в довольно длинную стену. У стены стояло несколько фантомасов с автоматами и в доспехах, а за ними головами к стене лежал целый ряд штатских с руками за головой. Один из фантомасов с интересом поглядывал в сторону Трофименко.
Трофименко пошел вперед, сделав самую невинную рожу, на которую только был способен. Это была величайшая глупость — идти прямо в зубы к фантомасам, хотя неизвестно, можно ли тогда еще было повернуть назад и как к этому бы отнеслись сидящие в мэрии. Но Трофименко, видимо, от всего пережитого плохо стал соображать и почему-то был твердо уверен, что сойдет за невинного прохожего — будто невинные прохожие шляются в зоне обстрела — и только когда один из фантомасов, наведя на него автомат, потребовал поднять руки, начал сомневаться в осуществимости своей затеи. Фантомас, держа палец правой руки на спусковом крючке, левой ошмонал Трофименко и нашел у того на поясе здоровенный ножак.
Поняв, что влип, Трофименко схватился за голову, что было не трудно — ему было велено держать руки за головой. Он даже не заметил, что за его спиной уже шмонают панков, бежавших за ним, как бараны за вожаком. В то, что его расстреляют, Трофименко как-то не особо верилось, но перспектива пролежать тут незнамо сколько, а потом еще топать за решетку, откуда он только-только вылез, его не прельщала. Если он не начал биться головой о стену, то только потому, что уж больно неудобно было перед фантомасами — узнают, кто он и будут потом думать, что все анархисты — психи. Он даже попытался было пролепетать что-то насчет того, что он хороший — мирный, просто вышел воздухом подышать, да случайно забрел в эту кашу — с кем не бывает. Но самодельный нож с двадцатисантиметровым лезвием оставался реальностью.
Объяснения, что, мол, в такое время без оружия ходить страшно, на фантомасов, похоже, не действовали. С такой штукой они имели, если не право, то уж, по крайней мере, возможность пустить Трофименко в расход. Но тут неведомо откуда появилась телерепортерка и начала снимать кадры, ставшие вскоре хитом — «арест боевика красно-коричневых». Если бы Трофименко вздумал стать основателем новой религии, ему следовало бы обожествить телерепортерок.
Репортерка засняла разоружение и пошла вслед за фантомасом, относящим куда-то свой трофей, по дороге интервьируя спутника. Между тем Трофименко, уже совсем было потерявший лицо, взял себя в руки и начал работать мозгами. Первое, что пришло ему в голову — это то, что надо бы снять с пояса и выбросить ножны, вряд ли кто запомнит, у кого нашли нож. Но сделать это, держа руки за головой, было непросто. Подошли еще двое фантомасов, ведя ошмонанных панков. Фантомас, карауливший Трофименко, поставил его в строй к панкам, и один из конвоиров повел всех вдоль стены — туда, где вереница лежащих тел, наконец, заканчивалась, и можно было положить новых пленных.
Трофименко подумал, что, если будет хоть малейшая возможность, надо задавать деру. Конечно, есть риск, что пуля догонит, но то, что ждет его здесь, вряд ли будет приятнее.
Пройдя шагов десять, колонна остановилась. Здесь стоял еще один фантомас. «У этих что-нибудь нашли?» — спросил он у конвоира. «Ничего», — ответил тот. Он не видел, как шмонали Трофименко. «Гони их, — сказал фантомас, — к е…ной матери!»
Панков построили попарно. Трофименко оказался пятым, и его поставили в самый конец. До последней секунды он не знал, успеют его отпустить или нет. Всех еще раз охлопали, но под одежду не лезли, а матерчатые ножны под курткой не прощупывались. «Пошла» одна пара, другая… «Давай, отец!»- сказал фантомас и хлопнул Трофименко предплечьем по пузу — словно бы хотел вломить напоследок, но только гораздо слабее. О чем думает человек, уходя из-под дула автомата? Пес его знает. Трофименко, перебегая к ближайшей подворотне, думал о том, что же все-таки означал этот хлопок по пузу. И еще он думал о том, какой это все-таки бардак — война.
* * *
После того как из мэрии перестали выносить раненых, волошинцы некоторое время продолжали оставаться возле мэрии, а потом, обогнув киоск, попытались оттуда приблизиться к Белому дому. Однако улица между мэрией и БД слишком хорошо простреливалась, и после пары неудачных попыток санитары, решив больше не искушать судьбу, вернулись на прежнее место. Это произошло как раз в тот момент, когда Трофименко стоял под прицелом фантомасов. Волошинцы разминулись с ним в полторы минуты.
* * *
Первого раненого Эллин заметил довольно скоро. На углу Красной Пресни и Трехгорного вала Костю спугнул патруль (патруль был обычный, милицейский, но береженого бог бережет), и Эллин, свернув на Трехгорный, топал по нему аж до Рочдельской, где снова повернул к БД и тут же напоролся на мужика лет тридцати с простреленной ногой.
Мужик не имел к защитникам БД никакого отношения, а, может, и имел, но скрывал это; во всяком случае, он утверждал, что оказался тут по своим делам, и ранил его снайпер с крыши. Как мужик с дыркой в ноге сумел уйти так далеко от Белого дома, осталось для Кости загадкой. Правда, пуля, судя по всему, повредила только мышцу, кость была цела.
Эллин тамариным скальпелем распорол мужику штанину и перевязал ногу, после чего закинул руку раненого себе на плечо, и они довольно долго бродили вдвоем на трех ногах, выясняя, где тут поблизости больница или хотя бы травмопункт.
В конце концов, они добрались до какой-то поликлиники, и тут, как обычно, выяснилось, что одних врачей нет на месте, а другим нет дела до раненого.
Тогда Эллин начал темпераментно объяснять ситуацию первым попавшимся врачихам, демонстрируя им то раненого, то свою повязку с красным крестом, то тамарин скальпель. Видимо, то ли костино упорство, то ли вид скальпеля возымели свое действие — откуда-то появился хирург и уволок мужика в свой кабинет, пообещав Эллину, что раненого обслужат по высшей форме, и как-то особенно настойчиво подчеркнув, что Костя, как мавр, сделал свое дело и, как мавр, может, ну, словом, уходить. Удивленный такой настойчивостью, Костя вышел из поликлиники и тут же услышал вой милицейской сирены и увидел машину, катящую аккурат к поликлинике. По его это душу или за раненым, Эллин не стал выяснять, нырнул во дворы и был таков.
* * *
В восемь утра по внутренней радиосети БД было объявлено, что депутатам и сотрудникам аппарата надлежит собраться в зале Совета Национальностей (благо, зал находился в середине здания, окон не имел и от обстрела был защищен). Собраться они собрались и первые часа полтора даже что-то обсуждали. Однако, ничего дельного придумать не удавалось, да и что тут можно было придумать? Было ясно, что игра проиграна, по крайней мере, если и дальше играть по тем же правилам, а нарушать эти правила никто не хотел, да и поздно уже было. Раньше надо было вооружать народ и поднимать регионы, теперь те же региональные элиты стали к Ельцину лояльней, после того как Черномырдин спросил у губернаторов, чего те добиваются, уж не хотят ли они, чтобы и в их областях началось то же, что в Москве? Но ведь если бы даже и можно было еще что-то сделать, что бы это меняло? Ведь изменить ситуацию можно было только, подняв великую смуту, по сути дела, начав революцию, а кто из депутатов хотел великой смуты и революции? Они хотели власти, а власть боится потрясений.
Словом, вскоре собрание начало плавно перетекать в концерт депутатской самодеятельности — при тусклом свете внутреннего освещения державные мужи пели под гитару песни собственного сочинения. Может быть, это была попытка помереть с музыкой, а может, у депутатов просто ехала крыша… К средине дня организованное собрание как таковое окончательно прекратилось, и только время от времени заслушивались объявления и сводки с поля боя. Изредка по зданию в сопровождении более чем десятка вооруженных охранников проходил Хасбулатов, пожимавший руки всем, кто попадался ему на пути.
* * *
Забежав в ближайший двор через простенок между домами, Трофименко попытался сразу же и выскочить со двора через подворотню, но не тут-то было — за ней стояли фантомасы, загонявшие обратно двух мужиков, которые пытались вывести парня лет пятнадцати, раненного, вроде бы, снайпером.
Фантомасам было накласть на парня. На других — тем более. Трофименко сунулся, было, обратно в простенок, но понял, что мимо фантомасов ему, один чорт, не пройти — простенок и подворотня выходили на одну и ту же улицу, и расстояние между ними было метров десять. Тогда Трофименко остановился и оглядел двор.
Двор с двух сторон оганичивался сталинским домом, с двух других — какими-то стенами и заборами, за которыми, судя по всему, был двор мэрии или еще чего похуже, во всяком случае, лезть туда было небезопасно. Никаких других выходов, кроме простенка и подворотни не было. Ниппель и только. Кроме Трофименко и панков, во дворе обреталось еще несколько мужиков. Двое из них, повернувшись к стене, подмывали ее устои.
Трофименко обошел двор. Задрал ногу у стены (на всякий случай, чтоб не мучаться, если все-таки придется лежать мордой в асфальт). Вспомнил про ножны. Но снять их не успел. Он вдруг увидел, что с земли к одному из окон дома, почему-то открытому, проложена доска, и народ лезет по ней. Трофименко тоже рванул по доске. Влез в окно и оказался в подъезде между первым и вторым этажом. Вместе со всеми спустился к выходу. От Садового кольца людей отделяла только массивная старорежимная дверь.
Кто-то из панков открыл дверь и высунулся наружу. Прямо перед дверью на проезжей части стояла машина «скорой», возле которой, как бы прячась за ней от улицы, стояли двое мужиков в халатах: один — видный, средних лет и, судя по манерам, врач, другой — высокий, худощавый, лет двадцати пяти; да еще солдат — в доспехах, при оружии, но без маски. Увидев панка, врач заорал, что на чердаке дома напротив сидит снайпер — держит на прицеле пятачок перед подъездом, и велел панку не высовываться. Насчет снайпера было похоже на правду, но сзади, по мнению Трофименко, его, Трофименко могли хватиться, и анарх взял инициативу в свои руки. Подержав некоторое время дверь закрытой, чтоб снайпер, если он там есть, слегка успокоился, Трофименко резко распахнул ее и в два прыжка оказался у машины. За ним, как горох из дырявого мешка, посыпались панки. Снайпер никак не отреагировал. Врач заорал дурным голосом, но тут же заткнулся. Теперь гнать панков обратно в дом было просто глупо. Санитар и солдат, видимо, не питавшие особой вражды к гражданским, волею случая попавшим в эту кашу (и уж, конечно, не предполагавшие, каким образом попал сюда Трофименко), следили за развитием событий с некоторым, как казалось, даже любопытством; и врач махнул рукой. Трофименко побежал по тротуару в сторону американского посольства (не зная между прочим, что там находится посольство), а за ним побежали панки.
Бежать пришлось с поднятыми руками и постоянно оря, что их уже ошмонали и приказали им бежать в эту сторону. Шагах в тридцати от машины их уже ждал новый кордон, в котором набралось всякой твари — если не по паре, то уж во всяком случае — по харе. Были тут и фантомасы, и солдаты без масок, и даже какая-то деваха в форме, но без оружия. Кордон схватился за автоматы, но магические слова «нам приказали» возымели свое дейстивие, и беглецов пропустили, даже не обыскивая, перегнав только на другую сторону кольца — подальше от посольства. Тут Трофименко вспомнил, что он так и не снял ножны.
Убедившись, что непосредственная опасность миновала, иреановец огляделся. Он стоял на какой-то узкой улочке, возле старого дома в лесах. Вокруг толпился народ. Наиболее шустрые бегали уже по лесам.
Трофименко никогда всерьез не занимался ни альпинизмом, ни скалолазаньем. Он просто с детства умел и любил лазать по деревьям, домам, скалам, стройкам. Это был природный талант, требовавший реализации. Даже если бы вокруг дома не было лесов, Трофименко, вполне возможно, не удержался бы от того, чтобы в такой ситуации на него влезть. Теперь же анархист не раздумывал ни секунды.
Он раньше всех оказался на крыше дома, на самом ее верху. Минут через пять, посмотрев вниз, Трофименко увидел Диму Старикова, который подошел к лесам, постоял с секунду, словно вспоминая свою молодость, и ловко уцепился за леса. Через минуту он уже здоровался с Трофименко. Здесь на крыше дома N 57 по улице Герцена, через год ставшей Большой Никитской, строители первых баррикад у Белого дома наблюдали его штурм.
* * *
Эллина доставали патрули. Мало того что они постоянно попадались ему на глаза, так, в конце концов, он сам попался на глаза одному из них, и вояки, заметив Костю, быстро пошли за ним. Не дожидаясь, пока его окликнут, Эллин завернул в какой-то двор и, покружив по нему, в конце концов, заскочил в первый попавшийся подъезд. Может быть, это было излишним, но после того что он увидел в Останкино, Костя окончательно потерял всякое желание общаться с правительственными войсками.
Оказавшись в подъезде, Эллин начал было подниматься по ступенькам и тут только увидел, что он не один. На лестничной клетке у окна — кто на подоконнике, а кто просто на корточках — сидело несколько каких-то личностей. На вид сидевшим было лет восемнадцать-девятнадцать, самому старшему, несильно за двадцать. Что они тут делали, было непонятно, может быть, тоже прятались от патрулей.
Эллину его соседи сразу не понравились. Что-то в них было от тех пацанов, которые почти пять лет назад распороли ему куртку, только кое-кто из этих был постарше, чем те тогда. Эллин на несколько секунд задумался, поздороваться ли ему с компанией или не обращать на нее никакого внимания, но тут один из сидевших, на вид — самый молодой, привстал и безо всяких приветствий и вступлений спросил у Кости:
— Ты кто?
— Санитар, — столь же лаконично ответил Костя.
— Санитар?.. — удивленно протянул парень. — А морфий у тебя есть?
Морфия у Кости, естественно, не было, так же как не было ни спирта, ни каких бы то ни было наркотических препаратов.
— Х…вый же ты санитар, — резюмировал собеседник, — раз у тебя ничего нет. Что же тогда у тебя есть?
Эллин понял, что дальнейшая беседа ни к чему хорошему не приведет.
— У меня есть скальпель, — ответил он, вынимая из кармана тамарино орудие самозащиты. — Желающих могу излечить от сексуальной озабоченности хирургическим путем.
В первое мгновение угроза подействовала безупречно — то ли любителя морфия и спирта поразил размер скальпеля, то ли остроту Кости (который просто вспомнил, для чего скальпель был нужен Тамаре) он воспринял всерьез и побоялся, что Эллин в случае чего будет стараться попасть ему не куда-нибудь, а именно по вымени (а что может быть страшнее для молодого парня?), но только он сразу же замолчал и как-то попятился. Его товарищи на миг замерли, разинув рты, но тут же зашевелились, начали вставать, у кого-то из них в руке блеснул нож. Однако было уже поздно — Костя, воспользовавшись секундным замешательством, быстро отступил к двери и, распахнув ее, оказался снаружи.
Отойдя от дома на несколько шагов, Эллин на всякий случай оглянулся и, убедившись, что противник не собирается покидать своего укрытия, успокоился.
И как оказалось, напрасно. Неведомо откуда налетел патруль, Эллин едва успел запихнуть скальпель в рукав куртки со внутренней стороны. Что это был за патруль, тот ли, от которого он прятался в подъезде, или другой, Костя так и не понял, да и не пытался понять. Три мужика в военной форме, бронежилетах и касках направили Эллину автоматы в пузо и начали выяснять, кто он такой и что тут делает. Услышав про сандружину, вояки недоверчиво переглянулись, и один из них начал Эллина шмонать. Шмонал он долго и основательно, даже бинты с ватой и йод выгреб из костиных карманов и охлопал Эллина всего с головы до ног, похлопал и по рукавам, но по счастливой случайности все больше со внешней стороны, и только пару раз у самых запястий залез большими пальцами на внутреннюю; так что скальпель он так и не обнаружил. Посмотрев на медикаменты так, будто видели подобные вещи первый раз в жизни, патрульные вернули их Косте и, ни слова не говоря, свалили куда-то в сторону БД. Костя инстинктивно рванул в противоположную сторону — подальше и от патрулей, и от негостеприимного подъезда.
* * *
Леонтьев, так и не сумевший, в итоге, пробраться к БД, бродил с аллиными бутербродами по Садовому и по дворам, рассудив здраво, что коль скоро здесь стреляют, то значит, и он тут может пригодиться. Пока он однако не пригодился. С крыш постреливали, но никого из прохожих или зевак не задевало, казалось, что идет не война, а игра в войну. Только изредка кто-нибудь с перепугу тыкался мордой в пыль. Леонтьев со своими бинтами оставался невостребованным. Впрочем, оно и к лучшему…
* * *
В четыре часа дня в Белом доме появился некто, представившийся командиром «Альфы». Окружившим его депутатам некто без лишних слов сообщил, что «Альфа» получила приказ взять БД и приказ этот намерена выполнить, но крови, дескать, альфовцы не хотят и потому готовы вывезти на своих автобусов всех осажденных к ближайшей станции метро и даже, если что, защитить их от расправы, если, конечно, осажденные сдадут оружие. Депутаты посовещались и приняли условия.
Через час первая партия осажденных — в основном женщины-работницы из буфетов и столовых были посажены на автобусы и увезены к метро.
* * *
Миша пролежал на полу, по собственным расчетам, часа два. Точно понять было невозможно, потому что не только на часы посмотреть — и голову-то поднять не давали, грозя начать стрельбу.
А потом вдруг неведомо откуда пошел слух, что якобы к БД подходит Кантемировская дивизия, и все сразу изменилось. Лежащие на полу хором начали скандировать: «Банду Ельцина под суд!», а потом и откровенно стыдить спецназовцев, предлагая последним «переходить на сторону народа». Кантемировская — не кантемировская, но, видимо, снаружи действительно что-то было неладно, потому как спецназовцы наложили в штаны и стали с пленными страшно вежливы — разрешили сесть, курить, а переходя с места на место, извинялись и просили сидящих их пропустить.
Потом вдруг капитан спецназа, выхватив пистолет, начал стрелять в кого-то за окном. Почти одновременно солдат разбил прикладом стекло и дал наружу очередь. Затем снаружи что-то рвануло, и в окно полетели осколки. Хай поднялся невообразимый. Народ уже на стрельбу отреагировал таким ором, что ничего нельзя было разобрать, а уж после взрыва и вовсе посходил с ума.
Только на стрельбу он злился, а взрыв вызвал всеобщий припадок радости. Но радость радостью, а оставаться тут всем уже стало небезопасно. Капитан приказал спускаться обратно в подвал, и народ частично сбежал, а большей частью сполз туда.
Вскоре туда же спустились спецназовцы и заявили, что объявлено перемирие, и можно уносить ноги.
* * *
Батон и Алик несколько часов просидели в подъезде неподалеку от БД, ожидая, что или Белый дом будет взят, или кто из его защитников попытается выбраться оттуда. Вместе с гостями из Набережных Челнов в подъезде засело трое пацанов из Казани, с которыми Батон и Алик познакомились прошлым вечером. Белый дом упорно держался. Алик, как обычно, начинал терять терпение и предлагать пройтись по вокзалу.
Наконец, стрельба прекратилась, и тут у пацанов возникли разногласия. Казанцы и Алик предлагали подождать, не появится ли тут кто из защитников, а отчаянный Батон — наведаться к БД и, пока не убрали трупы, пошарить у них по карманам.
Предложение было довольно рискованное, но Батона заело самолюбие, тем более, что один из казанцев явно претендовал на лидерство, а это Батону не нравилось. В конце концов, он заявил, что, кто хочет, может оставаться здесь, а ему и одному не слабо провернуть это дело и, оставив Алика с казанцами в подъезде, выбрался наружу.
* * *
В три часа Тавризов и компания временно свалили от Белого дома — Тавризов хотел забрать сына из детсада. Вскоре, впрочем, выяснилось, что забирать никого не надо — в саду было только семь детей, остальных родители предпочли держать дома, так же, как и жена Тавризова, которая, правда, сначала привела сюда своего сына, но потом раздумала и отвела назад и сама осталась дома, наплевав по такому случаю на работу. Тогда санитары заскочили к Тавризову, благо, он жил совсем рядом, и как следует подкрепились у него дома. Здесь они чуть было и не остались — по телевизору сообщили о капитуляции БД; однако отчаянная Трусевич убедила всех, что капитуляция — капитуляцией, а раненые могут быть и после капитуляции, так что уже в пять минут пятого четверка вывалилась из тавризовского дома и снова отправилась на фронт.
* * *
Депутаты, сотрудники, журналисты, сдавшиеся защитники БД и прочие его обитатели, согласившиеся на «эвакуацию», но не попавшие в первую группу, ждали своей очереди довольно долго. Наконец, альфовцы заявили, что автобусы заблокированы, так что добираться до метро прийдется пешком, несколько сот метров при этом альфовцы могут вышедших проводить. На том и порешили. Проводили вышедших альфовцы аккурат до проходного подъезда соседнего дома, где БДшников уже ждали омоновцы, коим альфовцы и передали вышедших, после чего отправились заниматься своим основным делом — добивать тех, кто сдаваться не пожелал или просто не поверил обещаниям «Альфы» о том, что расправы с пленными не будет.
* * *
Войтехову, вышедшему во второй партии «эвакуируемых», относительно повезло. Омоновцам понравились отобранные у него часы, поэтому его особо не мордовали. А может быть, дело было и не в часах, тем более, что омоновцев было много, а часы — одни, может быть, других бить им больше нравилось или мордами другие их больше раздражали, или чем-то Войтехов им приглянулся, может быть, наконец, просто случай такой выпал, но только Войтехова они почти не били. Конечно, «почти» — слово относительное, особенно, когда имеешь дело с ОМОНом. Но, во всяком случае, Войтехову не сломали ребер и не выбили зубов, как кое-кому из депутатов, его не прогоняли больше одного раза сквозь строй, как многих рядовых защитников и журналистов, и уж тем более не расстреляли, как выходившего рядом с ним мужика, у которого в сумке нашли ментовскую плащ-палатку, и других, у которых в карманах или сумках нашли подобную же фигню. Разовые тумаки в счет не шли — они доставались всем.
В конце концов, всех пленных, отобрав у них деньги и ценности, омоновцы рассортировали на мелкие группы и распихали по автобусам. Военнослужащих в форме и «казаков» собрали отдельно, потом говорили, что к вечеру большую их часть расстреляли. Посаженных же в автобусы повезли по ментовкам. Не избежал этой участи и Войтехов. В ментовке его с полчаса допрашивал какой-то следак из ГУВД, а затем лицевца заперли в какую-то пустую камеру. Впрочем, ему недолго пришлось скучать в одиночестве. Через каждые пять-десять минут в камеру прибывали новые арестанты: сперва — те, с кем Войтехова везли в автобусе, а потом — и другие, были тут и защитники БД, и те, кто показался ментам или омоновцам похожим на оного защитника; и часа через два камера оказалась забита до отказа, после чего приток новоселов неожиданно резко прекратился. Может быть, теперь заполнялись другие камеры, может, арестантов везли в другие отделения, а может быть, просто уже арестовали всех, кого можно было арестовать — кто знает? Изнутри трудно понять, что там происходит снаружи.
* * *
Миша Голицын, вспомнив, что он — хоть и недоучившийся, но все-таки медик, остался помогать выносить раненых, которых у БД хватало, хотя трупов было больше. В числе последних оказались и двое останкинских беспризорников. Раненых солдат грузили в бронемашины. Со штатскими было сложнее. Для солдат они были врагами (солдаты для того и существуют, чтобы держать в страхе народ, то есть штатских), а тут еще снайпер с какой-то крыши время от времени бил в кого попало, подстрелив даже четырнадцатилетнего парнишку, перелезавшего через забор; и пришлось порядочно помахать белой тряпкой, прежде чем удалось убедить вояк не стрелять.
В конце концов, раненых по одному вынесли к улице 1905 года, где их ждала «скорая» с врачом, не имевшим, правда, ничего, кроме бинтов. К санитарам присоединилось несколько прохожих, которые, оказавшись тут на свою беду, теперь не могли выбраться из этой каши.
Когда увезли последнего раненого, Миша направил свои стопы к станции метро «Баррикадная». Его никто не остановил. То ли спецназовцы уже привыкли к Мише, то ли в суматохе приняли его за одного из тех случайных прохожих, что тоже помогали санитарам.
«Баррикадная» была закрыта. Миша позвонил Бийцу и, узнав, что поезда в эту сторону ходят, начиная с «Беговой», направился туда.
* * *
Батона взяли на обратном пути. Заметив неподалеку пяток санитаров и вспомнив вчерашний опыт, Батон закричал, было, что и он — санитар, но вооруженные типы в черных масках со словами: «Если ты — санитар, где твоя повязка?» поставили Батона носом к стене и основательно ошмонали. Помимо паспорта, прописанного в Набережных челнах, шмон выявил у Батона в одном кармане куртки модем и видеокарту от компьютера, а в другом — блоки оперативной памяти, после чего судьба Батона была решена. Расправу несколько притормозили санитары, но только притормозили. После того как Батона увели от санпоста, битье началось по новой.
* * *
Второй медотряд действовал, разбившись на пятерки, большая часть которых занималась вытаскиванием раненых. Исключение составляла «внутренняя пятерка», занятая только медпомощью.
Стас с Павлом при разбиении попали во «внутреннюю пятерку». Ее комплектовали из самых опытных медиков, к каковым почему-то отнесли и волошинцев. На войне легко рождаются легенды, и второтрядовцы уже слышали от кого-то о какой-то бригаде профессиональных врачей, действовавших где-то рядом. Когда же они узнали, что «Первый медотряд» был в Останкино, весь Второй отряд окончательно уверился в том, что волошинцы — это и есть та самая бригада медиков-асов.
Работа во «внутренней пятерке» была самой ответственной, но одновременно и самой безопасной — ей не приходилось бегать под пулями. Впрочем, и другие пятерки если и бегали под пулями, то все больше под шальными — специально по белым халатам тут старались не стрелять, не то что в Останкино. Другой особенностью работы у БД, по сравнению с работой возле телецентра, было то, что здесь медики стояли со стороны правительственных войск, которые, в отличие от повстанцев, почти не несли потерь. Впрочем, и с этого берега все прелести войны были видны не хуже. Буквально на глазах у второтрядовцев был до полусмерти избит какой-то парень лет двадцати трех, утверждавший, что он — тоже санитар. Бившие отвечали, что никакой он не санитар, а обыкновенный мародер, и это куда больше походило на правду. Единственное, чего добились второтрядовцы, это того, чтобы парня не дубасили при них. Фантомасы подождали, пока санитары промоют бедняге сломанный нос перекисью водорода, и уволокли недобитого с собой. Потом Стас с Павлом видели, как из БД выводят солдат, как выяснилось, из Дивизии Дзержинского — тех, которые перешли на сторону ВС. Вид у солдат был подавленный. С них срывали погоны и тоже куда-то уводили. И снова «внешние» пятерки тащили откуда-то раненых…
* * *
Миша Голицын, едва успев отойти от телефона, сразу же нарвался на второй кордон. Защитника БД подержали с поднятыми руками у стены (аккурат, как Трофименко в штабе баркашей), потом, предварительно побив (поводом для битья послужили найденные у Миши в кармане вторые очки), посадили в воронок и отвезли к станции «Улица 1905 года», потом пересадили в другой воронок. В первом вороне с ним оказалось еще два человека, зацапанных тоже у «Баррикадной», во втором — набралось уже человек пятнадцать, задержанных кто за что — один поднял с земли и рассматривал автоматную гильзу, у другого нашли газовый баллончик, третий просто ментам не понравился — видно, мордой не вышел… Из всех пятнадцати только Миша, в самом деле, был в БД.
Арестованную братию повезли сначала на Пресню в пересылку, потом по ментовкам, но везде народу уже и так было, как сельдей в бочке. В итоге, катались так долго, что арестанты успели совершенно освоиться со своим положением и пребывали уже не только не в подавленном, но даже, пожалуй, в приподнятом настроении. Арбатский рок-музыкант из группы под названием «Группа риска», забранный за то, что был в задницу пьян, развлекал товарищей по несчастью веселыми историями из собственной жизни. Только ближе к вечеру где-то на окраине Мишу, наконец, запихнули в и без того переполненную камеру.
* * *
После ухода депутатов Белый дом продолжал сопротивляться. Иногда казалось, что сопротивление уже сломлено, но потом все начиналось снова, и тот из штурмующих, кто раньше времени расслаблялся, здорово рисковал. Когда защитники уже почти перестали стрелять, и штурмующие утратили бдительность, из окна БД вдруг кто-то шарахнул из «Мухи». Шарахнул прицельно — там, где за секунду до выстрела стоял солдат Дивизии Дзержинского, не осталось ничего. Ни обрывков камуфляжа, ни обломков бронежилета. Парень так и не смог поехать на дембель, до которого ему оставался всего месяц. Даже в цинковом гробу.
* * *
Батон очнулся в камере. Он лежал на топчане, и сидящий рядом с ним мужик лет пятидесяти сочувственно спрашивал Батона, за что того так отделали. Узнав про компьютерные платы, мужик покачал головой:
— Что ж это ты так? Разве так можно? Это же все — народное! Чем ты тогда лучше Чубайса? Тот народ обворовал, и ты обворовываешь.
— А чем я хуже? — недовольно спросил Батон.
— А я и не говорю, что ты хуже, — ответил мужик. — Ты — такой же.
Рядом кто-то хмыкнул. Батон приподнял голову и увидел рядом с мужиком какого-то типа лет тридцати с фонарем под глазом.
— Тогда почему Чубайса никто не бьет, а меня бьют? — язвительно спросил Батон.
— Потому что у власти эти гады, — ответил мужик.
Батон, плохо соображающий после многочисленных ударов по затылку, только теперь понял, кто его собеседник.
— А-а, — сказал он, — понятно. А ты, значит, к Белому дому пришел, чтобы против них воевать?
— А ты зачем пришел? — усмехнулся тридцатилетний. — Компьютеры приватизировать?
Батон замолчал и отвернулся. Он всегда относился к подобным людям с презрением. Собеседники Батона перебросились между собой парой фраз, которые Батон толком не расслышал, зато он явно разобрал слово «мародер».
Хотя насчет мародера все было чистейшей правдой, Батону захотелось встать и вырубить обоих, чтобы знали, с кем дело имеют, и относились с уважением. Но у него были поломаны нос и ребра, так что ему не только встать, но и пошевелиться-то было непросто. Перевернувшись на спину, он оглядел битком набитую камеру и убедился, что, по крайней мере, половина ее обитателей сильно смахивает на защитников БД, а остальные — какие-то алкаши, которым одинаково наплевать и на БД, и на Батона. Даже если бы Батон был здоров как бык, соотношение сил оказалось бы не в его пользу.
«Ладно, — подумал Батон, — с вами мы еще разберемся». Он ощупал одежду и убедился, что ни денег, ни документов при нем нет, зато ни спецназ, ни менты не нашли обручальное кольцо, которое он снял с убитого и спрятал в плавках.
* * *
Плющихинской четверке на этот раз не удалось пройти к Белому дому. После выхода депутатов, от того ли, что теперь в БД не было никого, кроме боевиков, от чего ли другого, но только ситуация в районе Смоленки здорово изменилась — вояки стали агрессивнее, на вопросы не отвечали, только гоняли всех прочь и при этом ухитрились перекрыть все ходы и выходы, какие только можно было найти. Через час даже Тавризову, знавшему этот район как свою квартиру, стало ясно, что пройти к горящему зданию невозможно. И все-таки волошинцы, надеясь то ли на чудо, а, скорее, на то, что ситуация снова изменится и в заслоне опять появится лазейка, до самого вечера продолжали бродить по дворам и переулкам то со стороны Смоленки, то со стороны Новинского бульвара, натыкаясь на заслоны и обходя шнырявшие вокруг патрули, ищущие, кому бы свернуть шею.
* * *
Вечером, когда по БД уже перестали стрелять из пушек, но бронетехника еще разъезжала по городу, неподалеку от затихшего фронта — на Садово-Кудринской, возле высотки творилась какая-то чертовщина. Несколько молодых ребят лет шестнадцати-девятнадцати выкидывали на улицу старые доски, поломанные скамейки, мусорные баки и прочую дрянь, мешая технике проезжать. Подоспевавшие омоновцы разгоняли молодцев, скрывавшихся во дворах, и раскидывали импровизированную баррикаду, но через несколько минут молодежь появлялась снова.
Перекрыть движение на Садовом «внесколькером», да еще, когда постоянно мешает ОМОН, — дело практически невозможное, но каждый раз, как только ОМОН расходился по своим делам — отгонять зевак и ловить подозрительных — строители вновь возникали неведомо откуда и опять забрасывали улицу свежим мусором.
В конце концов, омоновцы увязались за строителями всерьез, и тем пришлось уносить ноги, что они все и сделали; только Паламарчук долгое время никак не мог найти, куда бы скрыться, и минут пять удирал от двух омоновцев, которые, по счастью, не стреляли. Он уже начал выдыхаться, когда ему удалось свернуть в какой-то переулок. Тут, на углу за ним с криком: «Держите красно-коричневого!» — увязался какой-то идиот, но Паламарчук боковым с разворота отправил идиота в нокдаун и скрылся в ближайшей подворотне. Преследователь, правда, скоро вскочил на ноги и бросился было следом за Паламарчуком, но тут в переулок вбежали омоновцы. Они догнали ловца красно-коричневых, намяли бедняге бока и утащили его с собой.
Минут через десять Паламарчук, не нашедший второго выхода со двора, в который он попал, выглянул из подворотни и убедился, что опасность миновала.
* * *
Кто-то из бывших «афганцев» однажды сказал, что на войне человек не взрослеет — на войне он стареет. Это — чистая правда, и если бы Эллин мог посмотреть на себя со стороны и поговорить сам с собой, он бы убедился, что за последние пару дней он действительно постарел лет на пять. Постарел не внешне, а как-то внутренне — в языке, в манерах. Но Эллин не мог наблюдать сам за собой, как биолог за подопытными крысами, и поэтому своего старения не замечал. Не замечал он и того, что его лицо, успевшее посветлеть за время пасмурных дней, теперь за последние три дня снова потемнело от загара. Костя вообще легко загорал — на Валдае и даже в Крыму он во время работы преспокойно скидывал майку, не боясь обгореть, и действительно почти не обгорал, а только темнел. Сказывалась отцовская южная кровь.
А вот, что Эллин замечал, так это то, что от его хождения толку было все меньше. Почти сразу после этого дурацкого обыска, при котором Эллин чудом сохранил скальпель, навстречу Косте попались два мужика с основательно разбитыми физиономиями. Кто были эти мужики — защитники БД или просто случайные прохожие и кто их так обработал — солдаты или какие-нибудь хмыри вроде тех, что встретились Эллину в подъезде, а может, и те, и другие, этого Эллин так толком и не понял. Как бы то ни было, но эти двое были последними, кому Эллин чем-то помог. Примерно с час после этого бродил он между окрестностями БД, Красной Пресней, Улицей 1905 года и Краснопресненской набережной, ожидая, что, может быть, появится кто еще, кому он будет нужен, потом, поднявшись по набережной вверх, перебрался по железнодорожному мосту на другой берег Москвы-реки, а там по Кутузовскому проспекту спустился сперва к Новоарбатскому, а потом и к Бородинскому мосту, надеясь пробраться к БД с другой стороны, но, убедившись, что и здесь ему нечего ловить, вернулся обратно.
Нельзя сказать, чтобы отсутствие пациентов вызывало у Кости угрызения совести. Он давно уже понял, что его участие в этой каше, в ее расхлебывании зависит не только от него, но еще и от кучи самых разных обстоятельств, и если он делает все, непосредственно от него зависящее, то значит, совесть его чиста.
Но чем дальше, тем больше он приходил к выводу, что все, от него, Эллина, зависящее, он уже сделал, и если больше раненых нет, то значит, и ему тут делать нечего. Ясно было, как дважды два, что к Белому дому ему не пройти и что трудороссы разбиты и деморализованы, и ничего похожего на останкинский поход или даже на позавчерашнюю стычку на Смоленке они повторить не смогут, да и патриоты, похоже, затаились. К тому же время было уже позднее, на улицах становилось темно, как в тот вечер, когда Костя первый раз появился у БД, только тогда было пасмурно и моросило, а теперь небо было не по-осеннему ясным и чистым.
Короче говоря, продежурив на московских улицах без перерывов на обед до семи вечера, Эллин решил, что он — перед всеми чист и имеет полное моральное право свое дежурство завершить. Он добрался до площади Краснопресненской заставы и собрался было оттуда идти к Беговой, но по ошибке свернул на Пресненский вал и, к своему удивлению, минут через двадцать вышел к Белорусскому вокзалу. Что поделать — не знал Эллин центральной, исторической части Москвы. Хотя, с другой стороны, это надо еще посмотреть, какую часть считать более исторической. Дом, в котором жила Ксения, не упоминался, наверно, ни в одном учебнике истории, однако именно в нем помещалась известная на всю Москву филателия, а протянувшиеся от «Беляево» до «Юго-Западной» улица 26 бакинских коммисаров и кусок Миклухо-Маклая давно уже стали самым крупным в Москве рынком наркотиков. Чем не исторические места (Гиляровского на них нет)?
Увидев, как, оказывается, быстро можно добраться от БД до вокзала, а стало быть, и от вокзала до БД, Эллин на секунду задумался, а не вернуться ли ему еще на полчаса, но тут же решил, что при своем знании Москвы он, пожалуй, опять заплутает и выйдет не туда, куда собирался, да и вряд ли что уже будет путного от его возвращения и, в итоге, доехав на метро до Пушки, направился в «Мемориал».
* * *
Весь день четвертого октября на улицах Москвы была слышна стрельба. В четыре часа было официально объявлено о победе, но это было вранье. Где-то на последних этажах БД еще сидели чудом не сгоревшие профессионалы из отряда «Вымпел», уступающие ОМОНу по численности, но не уступающие в умении убивать; а в подвалах и канализации оставались наиболее фанатичные члены Союза офицеров и симпатизанты баркашей вроде Паламарчука, не успевшие вовремя выбраться или не пожелавшие уносить ноги вместе со своими кумирами. Таких, правда, было совсем уж немного — всех своих баркаши увели, а простым сочувствующим они автоматов не давали; без оружия же в Белом доме мог сознательно остаться только самоубийца. Теперь с пяток таких фанатиков, вооружившись автоматами, взятыми у убитых, бродили по трубам, не зная, как выбраться, и не желая сдаваться. Кое-кто знал, как выбраться, но такие давно уже ушли сами и вывели с собой, кого могли. По чердакам и дворам еще прятались бойцы-одиночки, стрелявшие по омоновцам и спецназовцам; а те, в свою очередь, палили по ним. К ночи с одиночками было покончено — кто не был убит, ушел из столицы.
Но еще держался «Вымпел», еще не были перебиты скрывающиеся в подвалах. Штурм продолжался.
* * *
Выйдя из «Мемориала», Эллин решил пройтись к баррикадам ельцинистов — глянуть, что же творится там. Минут через пять он вышел на Пушку и оттуда, поплутав по подземному переходу, выбрался на Тверскую.
Первое, что он там увидел, был здоровенный грузовик, набитый бетонными глыбами и железяками. Два или три таких грузовика перегораживали улицу, оставляя узкий проход, в котором стоял какой-то хмырь воинственного вида. Машины были буквально вмурованы в баррикаду. Заметное даже от Пушкина укрепление особенно впечатляло вблизи. По сравнению с ним не только заграждения у БД, но и даже то, что было построено на Смоленке, показалось бы детской снежной крепостью. Мощное сооружение начисто скрывало московский плагиат с Медного всадника — памятник основателю Москвы, который, в общем-то, никакой Москвы не основывал, а просто устроил в ней пьянку, вкупе с местом проведения попавшую в историю. Впрочем, до Долгорукого от баррикады было еще идти и идти — она перекрывала улицу прямо здесь, у самой Пушки.
Костя остановился и, разинув рот, уставился на баррикаду. Так он и простоял, задрав голову, несколько минут, пока его не окликнули.
Костя обернулся и увидел трех парней лет семнадцати, одетых в камуфляж. Самый длинный из них, судя по всему, что-то спрашивал у Эллина. Двое более коротких — может быть, на сантиметр-другой выше Кости стояли рядом, ожидая ответа. Судя по запаху, все трое свято блюли славную традицию, идущую от владимирского князя к российскому президенту.
— Чего? — переспросил Костя.
— Я говорю, ты за кого? — повторил парень. — За демократов или за коммунистов?
— Я — за «Локомотив», — ответил Костя. — У меня прадед был железнодорожник.
— Ты не вые…ся, а отвечай! — в один голос заявили два других парня.
— Во-первых, я не вые…юсь, а отвечаю, — заметил Костя, — а во-вторых, кто вы такие, чтоб меня допрашивать? Вас что прокурор уполномочил?
— Нас народ уполномочил, — пояснил длинный.
— Народ? — удивился Костя. — Какой народ? Я лично вас не уполномачивал.
— Ты — не народ.
— Понятно. А кто — народ?
— Народ — это, кто за демократию.
Костя понимал, что назревает драка. Драться ему не хотелось. И избегать драки тоже не хотелось. Ему вообще ничего не хотелось. Последние два дня, похоже, лишили его возможности чего-то хотеть, он утратил всякие эмоции и, наконец, просто устал. Если бы он знал, что защитники российской демократии пристают к прохожим, то просто не стал бы сюда ходить, не потому, что боялся, а потому, что не имел желания тратить силы на выяснение отношений. И теперь эти трое, непонятно чего от него добивавшиеся, вызывали у него одно только раздражение.
— Ну и на что он вас уполномочил? — поинтересовался Эллин. — Людям мешать?
— Демократию защищать.
— От кого?
— От таких, как ты.
— От каких «таких»? — довольно зло спросил Эллин.
Как ни был он измотан, однако же его стало доставать поведение сопляков, в которых никто не стрелял, не кидал гранат, которых не били омоновцы, не ловили баркаши, и которые тем не менее чувствуют себя героями и корчат из себя крутых, мешая нормальным людям. Косте захотелось снять с собеседников штаны и выдрать их ремнем. Это было даже не то, что он испытывал, когда начинал, по его понятиям, хамить младший брат. Впервые в жизни Эллин вдруг почувствовал себя стариком, перед которым выделываются наглые юнцы.
Длинный приблизился к Косте вплотную. Он был выше Эллина сантиметров на пятнадцать.
— Таких, — прогудел он, дыша Косте в нос спиртными парами, — которые за красно-коричневых.
— Которые не отвечают, а вые…ются, — добавил другой.
— У кого рожа такая наглая, — подытожил третий.
Длинный протянул руку и ухватил Эллина за куртку.
— А рожа, кстати, знакомая. Где я мог ее видеть?
— Ты часом не из Белого дома?
Костина злость, наконец, превзошла усталость.
— Я из дома номер десять по улице Новая, город Люберцы, Московская область, — ответил он. — Можете съездить удостовериться. А теперь…
Он не договорил. И не бросил длинного через спину, как собирался. Потому что, услышав про Люберцы, длинный вдруг отдернул руку, будто через костину куртку пропустили ток, и отступил шага на два. Его приятели, удивленные таким поведением, застыли в недоумении. Костина злость сразу же прошла. Остались только раздражение и презрение. Он молча шагнул мимо длинного, не понимая, чего собственно тот испугался — вот уж пара лет, как любера, если с кем и дрались, так все больше не с москвичами, а с казанскими гопниками. Костя успел сделать еще пару шагов, как вдруг сзади послышалось:
— Эллин! Эллин, погоди!
Костя по инерции прошел еще метра полтора и остановившись обернулся. Длинный догнал его.
— Эллин, ты меня не узнаешь?
— Нет, — ответил Костя.
— Тебя тоже не узнать с бородой. Я — Леха Мозгин.
Теперь Косте все стало ясно. Мозгин учился в одной школе с его братом, и у Витька с Мозгой одно время были напряженные отношения. Года четыре назад Мозга даже поджидал как-то Витька после уроков, и надо ж было такому случиться, что в самый ответственный момент рядом чисто случайно, в самом деле, случайно, оказался Эллин. Все обошлось без синяков, но Мозга надолго запомнил, что к Эллину руки лучше не протягивать и особо не приближаться, не то мигом окажешся на земле вверх тормашками. И хотя, поняв, с кем имеет дело, Мозга драться не собирался, но руку он предпочел убрать от греха подальше.
— А, это ты, Мозга… — сказал Эллин. — У тебя голос изменился.
Голос у Мозги действительно изменился, что было неудивительно — он сломался уже после того, как Костя перебрался в Москву. Да и внешне Мозга стал другим — три года назад, когда ему было четырнадцать, он был одного с Костей роста.
— А я вот тут демократию защищаю, — пояснил он. — Ты, надеюсь, не за красно-коричневых?
— Нет, — сказал Эллин.
— Тогда пойдем к нам! Я тебя запишу.
— Нет, — сказал Эллин. — Я — сам по себе.
И повернувшись пошел прочь.
А Мозгин со товарищи вернулся за ограждения и направился в центр цитадели, туда, где, подражая медному Петру, простирал над землей свою длань медный Юрий, и только жеребец под ним не поднимался на дыбы, а чуть ли не проседал, как проседала лошадь под Александром Третьим, который, кстати, пока был не из металла, а из живой плоти, тоже регулярно набирался, да и помер, в конце концов, от вина. Любят российские государи заложить за воротник!
* * *
Перед началом комендантского часа второй медотряд погрузился в автобус с красным крестом и поехал на Советскую площадь — единственное место в Москве, на которое комендантский час не распространялся. Там, за баррикадами, санитары провели всю ночь. Они были единственными трезвыми в эту ночь в этом месте.
* * *
Лозован заметил санитарный автобус, когда последний катил по Новому Арбату. В автобусе среди прочих Лозован разглядел Стаса. Стас тоже заметил товарищей и что-то закричал им, приглашая в автобус. Четверка подбежала к машине, и Трусевич успела даже вскочить на подножку, но ее столкнули, и автобус умчался прочь, оставив удивленных волошинцев на произвол судьбы.
Между тем оставаться и дальше в окрестностях БД стало уже совсем небезопасно — до начала комендантского часа оставалось совсем немного, а транспорт здесь не ходил. Но, видно, сама судьба уже хранила волошинцев. Они благополучно миновали все патрули и, не особо даже опоздав, ввалились в «Мемориал». Здесь Тавризов раздобыл у кого-то водку, и четверка вместе с парой мемориальцев, слегка выпила. За погибших, за свою хорошо проделанную работу и просто за то, что сами уцелели.
* * *
Проснувшись утром, Миша обнаружил, что, кроме него, в камере нет никого, хотя бы отдаленно напоминающего собой защитника БД. Вокруг были какие-то гопники, да и вообще камера была не так набита, как раньше. Пошевелив мозгами, Миша, привычный к ментовкам и допросам, сразу придумал «легенду». Он — торгует газетами, шел за очередной партией, услышав стрельбу, растерялся, начал метаться и, в конце концов, угодил в лапы спецназа. Отработать детали он не успел, потому как дверь открылась, и его потащили на допрос.
Первым делом Мишу спросили, кто он такой и где живет. Признаваться в том, что он — иногородний Мише не хотелось — вчера в камере кто-то сказал ему, что будто бы всех задержанных иногородних сейчас высылают.
— Биец, — ответил он. — Сергей Николаевич, — и, ничтоже сумняшися, назвал адрес Бийца.
— Телефон есть?
— Отключен за неуплату.
Усердный мент пошел выяснять, прописан ли Биец Сергей Николаевич по указанному адресу. Тем временем допрашивающий, выслушав историю о похождениях торговца газетами, спросил, кто же шляется за газетами мимо осажденного здания, и получил стандартный российский ответ: «Был выпимши».
Менты недоверчиво оглядели мишин гардероб, но на нем не было написано, какой вид он имел до общения с фантомасами и грязной камерой; кроме того, люди, имеющие привычку даже в самый неподходящий момент быть выпимши, редко бывают слишком хорошо одеты. Голицына отпустили, предварительно взяв с него объяснительную и сняв отпечатки пальцев.
* * *
Пятого несколько сандружинников во главе с Леонтьевым снова появились в окрестностях Белого дома. Но уже некого было перевязывать — на улицах безраздельно господствовал ОМОН, и никто больше не пытался померяться с ним силой, а о том, чтобы пробраться в Белый дом, не могло быть и речи. Да и неясно было, остался ли еще там из защитников кто живой. После того как омоновцы, остановив и ошмонав сандружинников, отобрали у Лозована противогаз, остававшийся у того с прошлой защиты БД, волошинцы плюнули и ушли в сторону «Мемориала».
* * *
Эллин, к вечеру измотанный настолько, что по возвращению к тетке у него еле хватило сил позвонить домой и Тамаре — сказать, что живой, уснул, не раздеваясь, а проснувшись, первым делом попытался связаться с «Мемориалом». Но не один он звонил в «Мемориал», телефон был безнадежно занят; и только в одиннадцатом часу Костя дозвонился и, кроме прочего, узнал, что вчера якобы арестован какой-то анарх, которого недавно только еле вытащили из ментовки. Задав пару наводящих вопросов, Эллин понял, что речь идет о Трофименко. Через минуту Костя уже набирал телефон Ксении.
Трубку взяла Ксения. Сказала: «Алло!» и, услышав костино «Ксения, ты?», надолго замолчала. Видимо, говорить с Костей ей не хотелось, но, будучи опознанной, бедняга не знала, как отвертеться. Наконец она, видимо, смирилась и бесчувственным голосом произнесла:
— Да.
— Ксения, это я, Костя, — торопливо сказал Эллин. — Что у тебя с братом?
— Ничего, — удивилась Ксения. — А почему ты спрашиваешь?
— Он дома? — поинтересовался Костя. — Его видели по телевизору.
— Понятно, — голос у Ксении резко подобрел, и одновременно в нем появилась усталость. — Нам уже телефон оборвали. Вовка — цел и невредим, все — нормально. А ты что, с его друзьями говорил?
— Я и с ним в свое время говорил, еще до первого раза. Только я не знал, что он твой брат, а он не знал, что я тебя знаю. У него точно — все нормально?
— Точно, точно — заверила Ксения. — Если, конечно, не считать, что он, похоже, так и не поумнел. Если хочешь знать, как он выпутался, лучше спроси у него. Только сейчас он на работу ушел, придет часов в восемь. Ты где?
— Где обычно, — отвечал Костя. — На Профсоюзной.
— Если хочешь, можешь зайти, — предложила Ксения.
— Да нет, — ответил Костя, — я позвонил только из-за твоего брата. Передай ему привет от меня. Скажи: от того парня, которому он объяснял про анархизм возле панковского костра. На вторую ночь. У тебя самой — все нормально?
— Да… — Ксения явно была удивлена.
— Ну тогда до свидания.
Эллин нажал кнопку телефона и снова начал накручивать номер «Мемориала».
* * *
К полудню все было кончено. Остатки «Вымпела», расстреляв почти все патроны, были оттеснены на самый верх и там обуглились вместе со своими автоматами. Офицеры и сторонники нацистов в трубах частью были перебиты, частью ушли так далеко, что не могли уже найти дорогу и в подвалы БД. Что с ними стало дальше, можно только гадать. Может, кому-то и повезло случайно выбраться на свет божий, а большинство, наверно, до сих пор лежит там в виде скелетов с автоматами без прикладов и лож (потому что ложи и приклады давно сгнили). Во всяком случае, ни ОМОНу, ни спецназу они больше не попадались на глаза. Штурм закончился. Белый дом был взят.
К вечеру арестованные в БД, за исключением депутатов, были отпущены на свободу. Их больше не боялись. Им больше нечего было защищать.
* * *
Вернувшись вечером на Алымова, Костя узнал две новости. Во-первых, оказалось, что Тамара не только взяла две недели за свой счет, но и договорилась с начальством, что и Костя будет гулять (тоже за свой, естественно, счет) до двадцатого, а заявление напишет задним числом.
Во-вторых, она решила, что после такой заварухи им обоим неплохо бы отдохнуть где-нибудь в Ялте и уже купила билеты до Симферополя. Костя поинтересовался, на какие шиши она собирается жить во время этого свадебного путешествия, да и потом, когда Косте ни чорта не заплатят за месяц; и узнал, что Тамара сдала очередную часть своего золотого запаса. Костя никогда не горел желанием начинать карьеру альфонса. Но не успел он толком сформулировать эту мысль в своей голове, как Тамара его опередила: «Ты не смущайся! Пока я была молодая, на меня мужики тратились, а теперь и мне — не грех потратится. И потом, что мне его беречь? Знаешь, говорят, каждый должен узнать бедность, любовь и войну. Любви у меня сколько хочешь было, с войной ты меня хоть и заочно познакомил, надо ж когда-нибудь и бедности понюхать».
Костя ничего не ответил, только подумал, что при таком подходе к своим финансам Тамара скоро бедности нанюхается до чихания. И еще он подумал, что Стас, похоже, прав, и ему, Косте, видимо, в самом деле предстоит в дополнение ко второй любви пережить и вторую бедность, и вторую войну; потому как тамариного золота хватит ненадолго, а в том, что без второй войны для него дело не обойдется, Костя не сомневался. Вопрос мог быть только в том, как Эллина туда затянет. Будут ли разыскивать всех участников «Малой гражданской», вынудив его бежать в какую-нибудь «горячую точку»; подастся ли он туда сам в качестве наемника, чтоб не подохнуть с голоду; начнется ли еще через два года очередная защита Белого дома; или просто доберется до Кости, в конце концов, военкомат, и пошлют в какой-нибудь Таджикистан или, где тогда будут воевать, — кто его знает… Как говорится, возможны варианты.
Но одно Костя знал точно — эту свою первую войну он проиграл. Это была не его вина — армией, в рядах которой он сражался, руководили карьеристы и предатели, и некому было даже разогнать их, ибо почти все бойцы слепо верили этим предателям; но суть от этого не менялась — он не сумел отстоять свое право жить по-человечески, будучи инженером или рабочим, а не альфонсом, наемником или бандитом. Но он знал и другое — он еще молод — ему пока — только двадцать, и это — не последняя его война. У него еще будут шансы взять реванш.
Тамара куда-то выскочила на полчаса, и Эллин, оставшись один, вдруг почувствовал сильную усталость. Двухнедельная заваруха выработала у него способность отрубаться в любой момент, и Костя отключился, растянувшись на диване. Он отдыхал. У него было целых полчаса. Он набирался сил для реванша.
1994-2001; 2003