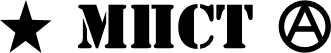На этого лысого мужика я наскочил, когда уже почти стемнело, и поэтому, веди я себя по-умному, он ни за что не смог бы меня ни запомнить, ни тем более потом описать; понял бы в лучшем случае, что я «что-то такое не то», и все. Однако ж нет.
Днем я смотался в деревню с целью стащить из лавочки пачку сигарет, посидел на обочине шоссе, греясь в лучах осеннего солнышка. Потом понаблюдал за молодежью на деревенской дискотеке и, повалявшись немного в опавших листьях в огромном парке, примыкавшем западным своим краем к озеру, собрался уж было двигать домой.
Я шел совершенно спокойно, не скрываясь, как говорится, «в полный рост». Даже если какой-нибудь человек и прошел бы поодаль, вряд ли бы он заметил существо, которое ему по колено. К тому же в тени старых кленов с раскидистыми ветвями и большими листьями, на фоне разноцветной опавшей листвы я был почти что незаметен. Да и не ходит в этом парке никто по вечерам. Те, кто живут в замке у озера, ходят обычно другой дорогой, той, что вокруг деревня, по открытому месту. К тому же этот парк – так называемая «частная собственность», и абы-кто здесь совсем не должен был находиться. Не должен. А этот хрен выскочил как из-под земли, вернее, наоборот, навис надо мной, будто с неба свалился.
Я в этот момент сделал глупость, наверное, самую большую в своей жизни. Вообще-то, я глупостей не делаю, ни больших, ни маленьких, вот и показалась мне эта глупость не то что самой большой, а какой-то просто вселенского масштаба. А состояла она в том, что я начал думать. И совсем «не в ту сторону», в какую надо было, если уж я такую глупость сделал – думать начал. Думать-то совсем было нельзя. Нужно было метнуться на ближайшее дерево и по ветвям быстро-быстро уйти. Он и не сообразил бы ничего. А если бы и сообразил, никто бы ему потом не поверил. Суббота, вечер. Люди обычно пьют в это время; почудилось – сказали бы. Да и как бы он меня описал? Так… что-то.
Вместо этого я обледенело застыл, глядя на него снизу вверх своими огромными красными глазищами. (Изабель мои глаза нравятся, она говорит, будто они «красивые». Я ни за какие коврижки никогда не смогу понять, что значит «красивые», но понимаю, что они ей нравятся. Хотя и не понимаю, как мужчина и женщина могут нравиться друг другу по частям). Ну вот. На голове у меня красовался колпак с загнутым назад рогом, на груди в вырезе рубахи блестели несколько золотых цепей, а на пальцах сверкали кольца с несколькими довольно крупными бриллиантами. Парк, правда, не освещался, но на небе, как назло, взошла огромная луна, в свете которой я был виден во всех своих интересных я необычных подробностях.
А думать я начал вот о чем. Мол, если я сейчас на мужика прыгну, то сумею перегрызть ему горло или хотя бы сознания лишить. Я бы, наверное, и эту глупость сделал, но пока я думал (я, наверное, в жизни столько не думал, сколько в этот вечер), этот лысый сделал незаметное движение и вытащил из кармана (или откуда-то еще) не что-нибудь, а пистолет.
Увидев пистолет, я сделал уж совсем самое идиотское, что мог в подобной ситуации – кинулся мимо лысого прямо по земле, даже не пытаясь вскочить на дерево.
…Пуля сшибла меня с ног; я упал и показался по опавшей кленовой листве как куль с барахлом, а лысый тем временем так шустро ко мне подскочил, как я не мог ожидать от человека. Люди обычно все-таки более неповоротливые.
Лысый легко прижал меня к земле одной рукой, направив дуло пистолета мне в лицо. Да-а-а… Теперь никому никогда не удастся убедить его, что я ему почудился. Его и без того большие голубые глаза совсем выпучились, и он непроизвольно потянулся ко мне своим толстым, омерзительно бледным рылом.
Я, наконец, перестал думать и начал делать. Завопив диким голосом (это хорошо помогает в драке, попробуйте, если представится случай), я ударил его по руке, в которой он держал пистолет, одновременно толкнув ногами в грудь. Лысый отлетел и упал, а я, вскочив, кинулся на ближайшее дерево. Вслед мне незамедлительно грохнул второй выстрел.
Покачиваясь, стоя на ветке клена, с трудом удерживая равновесие из-за пораненного плеча, я пошевелился, пытаясь разглядеть в заливавшем парк лунном свете моего лысого. Третий выстрел и просвистевшая у левого уха пуля заставили меня замереть на месте. Замереть и задуматься.
У моего лысого преследователя есть пистолет. ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ. Вообще-то, огнестрельное оружие есть у многих людей. У Изабель, например, тоже есть пистолет. Ей кто-то подарил. И еще какое-то оружие у них в доме имеется. Но, во-первых, пистолетик этот подарочный, а все остальное оружие старинное и имеет какую-то там художественную ценность (у людей все имеет ценность, если не обычную, то уж наверняка художественную или «историческую»). Во-вторых, на каждую единицу огнестрельного оружия у Изабель имеется по нескольку бумаг, в которых написано, как и почему ей разрешается его иметь. Кем разрешается? Бред. Ну, ладно. Вообще-то, это я к тому, что пистолеты у людей есть далеко не у всех. И я точно знаю, что не каждый имеющий этот пистолет может вот так запросто из него палить, как в меня палил этот лысый. Целых три выстрела. Это много.
Есть еще один нюанс. Маленький совсем. Этот парк, как я уже говорил, – частная собственность. А частная собственность у людей – это нечто особенное. Собственность неприкосновенная, защищенная человеческими законами, заборами, собаками и полицейскими. Изабель мне говорила (у нее средний сын – адвокат, человек, который «знает законы», а другие, выходит, не знают, вот и творят эти «знающие», что хотят), что самые жуткие человеческие законы – по охране собственности. Не по человеческой жизни, не по детям, не по земле, на которой люди тоже живут. По собственности. И вот по этой собственности на ночь гладя ходит не пойми кто и стреляет. Что из этого можно заключить?
Из этого всего я заключил вот что: этот человек – «не такой, как все». А это плохо. Хуже быть не может. Человек, который может носить оружие, стрелять из него где ни попадя и находиться на территории чужой частной собственности, может быть только «не таким как все», и никем иным. И положение мое от этого в корне меняется.
Вы меня тоже поймите. Я не какой-нибудь там. Хоть и на лесоповале работаю. У меня есть веселуха (люди говорят: любовница), которая человек. Мы с Эммерихом, правда, считаем ее нашей женой, но она говорит, что у нее уже есть муж, и больше быть не может, только любовники. У нас женщины имеют мужей, сколько захотят, а мужчины – жен, сколько захотят. И все живут вместе. Еще Изабель говорит, что она – старая. Я лично не чувствую, что она старая. И Эммерих не чувствует. Но ее сыновья говорили, что да, среди людей она считается старой. Но мы ее все равно любим и считаем своей женой. Просто у нее много работы, дети, внуки и она не может постоянно жить с нами. А так –жена, и точка.
Я это все к чему? К тому, что я общаюсь с людьми и кое-что знаю про их общество и устройство их жизни Если этот лысый «не такой, как все», то это значит, что ему можно больше, чем всем другим обычным людям. Это либо «полицейский», либо того хуже – «военный». Ни функций, ин места в человеческом сообществе полицейских и военных я не понимаю и, видимо, не пойму никогда. Знаю я только одно: им можно больше, чем другим. Полицейские, например, могут схватить любого другого человека и запереть его где-нибудь или даже убить, и им за это ничего не будет, хотя я тысячу раз слышал, что у людей убивать друг друга запрещено. Однако ж довольно большому количеству людей это все-таки можно. Так? Так. Не кажется ли вам это странным?
Другое дело – «военные». Из довольно путаных Изабеллиных рассказов я только понял, что это специально обученные люди для того, чтобы… нет, вы только подумайте, чтобы, когда другие люди сбиваются в кучи, чтоб друг друга убивать (что запрещено, но в особых случаях и непременно в кучах – можно, и это называется – воевать), показывать им (кучам), как это правильно делать. Вы можете из этого что-нибудь понять? Лично я – ничего. Я даже не понял, по какому принципу люди сбиваются в кучи – они ведь все почти одинаковые. Даже собаки более разные, но они же друг с другом не воюют. Изабель мне объясняла-объясняла, и я понял, что скорее по принципу языка, на котором говорят. Я не дурак. Я знаю, что люди говорят не на одном языке, а на нескольких, и книгу Друкхарка «О множестве человеческих языков» я тоже читал. А как же. Но вот, например, в доме у Изабель говорят сразу на трех-четырех языках, и тоже никто ни с кем не воюет, Кстати, и убивать никого не надо учить. Каждый это сам от рождения умеет. Однако я отвлекся.
Я стоял на ветке клена, прислонившись спиной к стволу. Дыхание мое улеглось, и я теперь дышал совершенно неслышно. Листва кое-как скрывала меня, а луна еще не взошла настолько высоко, чтобы осветить верхушки деревьев. Поэтому я видел лысого, а он меня – нет. Лысый между тем совершал внизу какие-то маневры. Он пометался по поляне, пытаясь меня увидеть, все время пригибаясь к земле и не опуская руки с пистолетом, а потом шастанул за невысокий, но пышный куст гречихи, росший аккурат напротив клена, на котором я сидел. Вернее, стоял. И залег там.
После этих его манипуляций в моей голове прибавилось еще два неутешительных вывода. Во-первых, он трезвый. И встречу в парке с существом вроде человека, но с красными глазами и размером максимум с два тома их паскудной Британской Энциклопедии он на свой пьяный бред уже не спишет. Во-вторых, он упорный и любопытный. И, судя по тому, что он за кустом так крепко обосновался, он намерен меня ждать. Видимо думает, что я свалюсь. Он же не знает, что я на этом дереве двое суток могу, не шевелясь, просидеть. И что я вообще несколько выносливей человека. Совсем чуть-чуть.
Но это дела не меняет.
Потому что он – «не такой, как все». А это значит, что даже если я убегу (а он вполне может достать меня из пистолета, стреляет он, как я уже убедился, хорошо), он пойдет к другим «не таким, как все» и про меня расскажет. Они ему, конечно, не поверят. Но лысый, как я тоже убедился, – мужик упорный, и кого-нибудь из них, может быть, самого близкого себе, он сюда притащит. Уговорит. А в отличие от нас, любой след определяющих только по запаху, у людей есть масса разных приспособлений, с помощью которых они могут определить, был кто-то в определенном месте, или нет. Даже спустя какое-то время. Грязь с моих сапог, частицы кожи, одежды, волосы, кровь, которой я испачкал листья, когда вертухался по земле, – все это можно будет по крупицам собрать, и, как говорят люди, «идентифицировать». А идентифицировать им это будет не с чем. Так как ни моя кровь, ни микрочастицы кожи, ни волосы не принадлежат человеку. Вот тут и начнется.
Куча «не таких, как все» обыщут весь парк (тут никакие Изабеллины деньги и связи не помогут) и найдут дыру. Тогда всем конец. Дело, видите ли, в том, что люди убивают все живое, что только видят. Такова уж их особенность. Под корень. До последнего представителя данного биологического вида. То, что на Земле остались, кроме людей, еще какие-то другие живые существа, это, видимо (судя по обьяснениям Изабель), – результат распрей между самими же людьми (их никогда не поймешь), но суть от этого не меняется: убивать все подряд – это основной поведенческий признак человека. Так считают Дитрих и еще некоторые, а у меня не было возможности убедиться в обратном. Вот, например, волки не съедают всех зайцев до единого. И птицы не ставят себе цель склевать всех червяков, чтоб не осталось не одного. А люди именно так и поступают. Именно поэтому я не могу допустить, чтобы этот лысый хмырь меня запомнил и описал, Если же он меня пристрелит, то получится еще хуже, ибо он получит в свое распоряжение мой труп. А это во-первых, неоспоримое доказательство моего существования, а во-вторых, он отнесет мой труп к человеку-исследователю и тот быстро сообразит, что я как минимум откуда-то взялся. Следовательно, я не один такой. Я видел однажды, как Дитрих исследовал таким образом труп человека, притащенного кем-то из наших. У него была начисто отгрызена голова, но все остальные органы были в порядке. Он по ним многое мог сказать об этом человеке. Я общаюсь с людьми, я имею такого соседа как Дитрих и знаю, что у людей есть достаточно совершенные средства исследования крови и тканей для того, чтобы отличить человека от любого другого живого существа. Идентифицировать, как я уже говорил. Поэтому сойти за человека-урода у меня шансов нет. Так что, если он получит мой труп, результат будет еще хуже.
Поэтому мне надо его убить.
Это я еще не подумал, куда потом деть его труп. Так как его труп, дорогие мои, ничуть не меньшее доказательство моего существования, нежели мой собственный. Следы зубов, слюна, оставшаяся в ране, следы моих ногтей на нем и многое другое, о чем уже говорилось выше, также приведет к обыску в парке. А этого я допустить не могу.
Стоп. Если я сейчас буду думать, что делать потом, я не придумаю толком, что делать сейчас.
А сейчас мне важно его убить.
Сидя на дереве, я тщательно спрятал все блестящие детали одежды, чтобы их не освещала луна, снял кольца и положил их в маленький кармашек на пуговице. Хорошенько застегнул ворот куртки, чтобы не были видны цепи на шее, и даже вывернул наизнанку свой колпак, дабы бриллиант, подвешенный на его роге, не прельщал своим блеском моего лысого преследователя. Только вот с пряжками на сапогах ничего не смог поделатъ. Можно было бы отвернуть их вниз, но тяжелые камни потянут за собой тонкую замшу, и я могу запутаться в голенищах в самый ответственный момент.
Но пока что не наступало ни ответственного момента, ни какого-либо другого. Шансов у меня по-прежнему не было.
И все дело было в пистолете.
Если бы у человека не было пистолета, я мог бы убить его двумя способами: заколоть кинжалом или перегрызть горло. Это запросто. Нужно только выбрать момент и сверху (обязательно сверху, чтобы он не успел меня отшвырнуть – я очень легкий) на него броситься. Однако при наличии пистолета никакие мои кинжалы и зубы не имеют значения, Это мы уже давно поняли, с тех пор, как у людей появилось огнестрельное оружие. Все знают: против пистолета не попрешь. Значит, выход одни – этот пистолет у него отобрать. А уж потом загрызть. Заколоть. Зарезать. Разорвать на клочки и разбросать их по всему парку. Вот смеху-то будет. «Не такие, как все» долго будут гадать, что за животное растерзало человека на тысячу кусков. Ведь волков-то здесь нет. И медведей тоже. Ха! Не собака же. Здесь у всех собаки – курам на смех: меньше меня размером.
Да-а-а… Размечтался я. Пистолет отобрать. А как это сделать, спрашивается? Кинусь на него – убьет сразу. Буду шевелиться – начнет стрелять, причем тоже может попасть. Три выстрела он уже сделал и одним из них меня ранил. Причем в темноте, и мишень я – довольно маленькая. Хорошо стреляет, гад, хорошо… Рукав моей куртки намок от крови, но боли уже не чувствовалось, да и кровь, видимо, не вытекала уже из раны. Три выстрела он сделал, гад. Три выстрела. Три. Значит…
Да что значит-то? Что-то важное, раз я об этом подумал. Так. Пистолет. Три выстрела. Три патрона. Если это пистоле-е-е-т (а это не револьвер, я их отличаю), это значи-и-ит… что…
Что у него осталось четыре или максимум пять патронов в обойме. Не больше. В обойме пистолета их обычно семь или восемь.
Так, значит, мне надо увернуться от четырех или пяти выстрелов, чтобы у него закончилась обойма. Во время этих «увертываний» надо будет спускаться по дереву максимально вниз, чтобы, как только прозвучит последний выстрел, вихрем нестись к кусту гречихи, броситься на человека и отнять пистолет. После этого – опять на дерево. А потом (как можно скорее) прыгнуть на него сверху, зубами в загривок и кинжалом по горлу – от уха до уха. И все.
Лучше бы, конечно, пистолет отбросить в сторону, а самому ему в горло вцепиться или кинжалом в живот, а то как бы не убежал, пока я буду думать, как на него половчее сверху прыгнуть. Но рисковать нельзя, если он меня отшвырнет, тогда точно убежит, да еще доказательство у него будет, лучше некуда – рваная рана на шее. Нет, надо, чтоб наверняка.
При таком раскладе шанс у меня появляется. Лысый давно в кустах сидит и уж, наверное, устал от бездействия. А судя по тому, что он в меня начал стрелять, не разобравшись, что я такое, и не попытавшись взять в плен, человек он тупой. Обыкновенная грязная, бледная человеческая тупица, которая будет стрелять, как миленькая, пока все патроны не израсходует.
Только бы не попал.
Ну, ладно, начнем. Я шумно тряхнул ветку, на которой сидел, и тут же сполз по ней немного вниз. Доли секунды, и меня оглушил выстрел, а срезанная пулей веточка упала мне на спину. Вот это да! Ай да лысый! Прямо «Ворошиловский стрелок» (это Изабель так говорит про хороших стрелков). Надо же, сколько среди людей хороших стрелков, даже есть какие-то «ворошиловские». А мы и стрелять не умеем.
Интересно, а почему еще никто не сбежался на выстрелы? Парк, правда, жутко глухой, а до замка на озере довольно далеко, но все-таки там могли слышать. Хотя… Может, там сегодня никого нет, или все сидят в дальнем крыле, а оттуда точно ничего не слышно, я этот замок хорошо знаю.
В любом случае, надо поторопиться. Тем более что луна поднялась выше и уже освещала большую часть моего дерева.
Так, осталось четыре. Я змеей соскользнул с ветки на ту, что ниже. Пуля вонзилась в ствол прямо у меня над головой, я не удержался и рухнул на следующую ветвь, больно стукнувшись лбом. Я, видимо, слился с деревом, поэтому он и не попал в меня следующим выстрелом.
Стало быть, осталось всего два, но веток внизу уже не было: это ж все-таки клен, а не елка.
Стараясь оставить лысому меньше времени на раздумья (может, он в пылу битвы не заметит, что обойма кончилась, мне тогда – микроскопическая выгода во времени), я снова тряхнул ветку и под грохот предпоследнего выстрела прыгнул вниз. Последняя пуля отщепила от ветки, на которой я только что лежал, изрядный кусок, и он упал прямо мне на голову.
Наслаждаться тишиной я не стал. Разинув пошире рот, чтобы видны были все мои устрашающего вида зубы, я понесся к кусту гречихи, выставив перед собой для убедительности руки со скрюченными пальцами. Это подействовало. При виде красноглазого зубастого страшилища мой преследователь (уж кем бы он там ни был), как самый обыкновенный человек, вскрикнул и выронил пистолет.
Я схватил пистолет и пулей рванул обратно на дерево.
Впоследствии я благодарил себя, что не воспользовался кинжалом. Нас разделял куст, и первым же ударом я бы его не достал, А там… кто знает. Но потерял бы много времени.
Взгромоздившись обратно на спасительный клен, повыше, от луны подальше, я взял горячий тяжелый пистолетик и обомлел. Обойма была полной. Мама дорогая, значит, за то время, что я бежал от дерева к кусту (секунды две, не больше), эта дрянь успела заменить обойму! Вот это скорость! Таких прытких людей я за свою довольно уже долгую жизнь не встречал. Он не только стреляет, он еще и руками шевелит так быстро! Хорошо, что не мозгами. Иначе после первого же своего выстрела сообразил бы, что листья, испачканные кровью неизвестного человеческой науке существа, нужно было быстренько собрать в пакетик и тихонько отнести в какую-нибудь лабораторию вроде Дитриховой, только, разумеется, побольше. А уж потом… Думать не хочется, что было бы потом. Ужас.
Я сунул пистолет в карман, тряхнул усталой башкой и осторожно полез по тонкой ветке вперед, примериваясь, откуда мне удобнее спрыгнуть лысому на голову… как вдруг… Мамочки! Еще один пистолетный выстрел сбил мою ветку, а я, падая, успел зацепиться за ту, что была чуть ниже. Зацепиться и подтянуться. Приехали.
Стараясь не производить никаких шумов, я поудобнее устроился на довольно толстой ветви и очумело задумался.
Итак, вернулись на исходные позиции. Мне удалось отобрать у человека пистолет, но у него, как выяснилось, есть еще один. Замечательно, получается, что все без толку. Он по-прежнему может пристрелить меня, а я по-прежнему ничего не могу ему сделать.
Я посмотрел на пистолет, совершенно бесполезный для меня, хоть и с полной обоймой, такой маленький, но все равно, слишком большой для моей руки. Я бросил взгляд на свою руку: она была сильная, мускулистая, с длинными, чуть загибающимися вниз ногтями и дырками для колец в перепонках между пальцами.
Да нет, как я из него выстрелю? Я же никогда в жизни не стрелял. Вообще никогда, ни из чего, даже из лука. Зверей в наших лесах не водится, мелочь одна, максимум белки и зайцы, да птицы разные. Зачем нам стрелять? Да и не едим мы мяса. Шубы на зиму шьем из овчины, а если хочется чего позаковыристее, мех можно спереть у людей. Рискованно, конечно, но можно.
Я взял пистолет снова в правую руку. Моя кисть как раз хорошо охватывала рукоятку, но не больше. До спускового крючка я уже не мог дотянуться. Можно, конечно, держать пистолет правой рукой, а на спуск нажимать левой… но я никогда в жизни не стрелял. Непременно промажу.
Лысый в кустах тем временем шевелился. Он теперь быстрее примет решение, зная, что у меня его пистолет. И бить будет наверняка: вторую обойму я его расстрелять уже не заставлю. Он же и подумать не может, что мне его пистолетом только орехи колоть, не больше.
Я еще раз охватил рукой пистолет и попытался дотянуться до спуска. Нет, бесполезно. Ноготь достает, конечно, но еле-еле, я его просто себе вырву, если попытаюсь нажать. Ногти у меня крепкие, я с ними по деревьям лазаю, но и они ломаются, а спусковой крючок тугой. Не получится.
Я снова посмотрел на свою руку. До спуска мне мешали дотянуться две перепонки: между большим и указательным и между указательным и средним пальцами.
От злости я готов был разорвать себя пополам! Ну, что, скажите на милость, мне делать!? Швырнуть в гада пистолетом в надежде зашибить? Или кинжал метнуть? Так в темноте хрен получится. Я, правда, вижу лучше человека, но самую милость, не то, что вы думаете.
Лысина моего оппонента заманчиво блестела в лучах лунного света, и, умей я стрелять, я бы смог, наверное, попасть ему в голову – расстояние то небольшое…
Мог бы попасть…
Никогда не стрелял…
Метнуть кинжал…
Кинжал…
Меня бросило в пот.
С трудом уняв дыхание, я осторожно вытащил из-под куртки кинжал и посмотрел на него. Раз плюнуть. Вернее, два раза. Между большим я указательным и между указательным к средним. Да, дырки для колец тоже, конечно, неприятно было делать, но это было быстро. И чтоб драгоценности косить. Да. А тут, чтобы жить. И чтоб жили остальные. Люди тоже прокалывают себе уши, носы даже, я видел… Чтобы драгоценности носить.
Так, прежде всего надо достать тряпку, чтобы остановить кровь. Следов моей крови на этом дереве люди ни в коем случае не должны обнаружить. Иначе все зря. А так – человек будет просто пристрелен, а не загрызен, и ни у кого и подозрений не возникнет, и необычных следов искать не станут. Мало ли…
Я спрятал кинжал и осторожно, почти не шевелясь, снял с головы вывернутый наизнанку колпак. Тихо-тихо, поддевая ногтями нитки, оторвал от него подкладку.
Льняная тряпка была, конечно, очень маленькой, но кровь у меня густая и тяжелая, она медленно вытекает и быстро сворачивается. Достаточно будет просто прижать тряпку к ране, чтобы не закапать ничего вокруг.
Надо, однако, поторопиться. Хорошо, что лысому не пришло в голову палить по дереву без разбору в надежде снова в меня попасть. Понятно, он теперь боится себя обнаружить, боится, что и я пальну. Пальну, будь спокоен… Тем более, что лысина твоя мне и так видна.
Я положил руку на подкладку от колпака, примерился, чтоб точно по центру (зачем?) и резанул с оттягом, привычным пилящим движением. Острая и жгучая, как красный перец боль проколола до мозгов. Я никак не мог вдохнуть и буквально чувствовал, как глаза мои от боли из красных сделались белыми. С полминуты я смотрел вверх, ничего не видя, потом с шипением вдохнул воздух и посмотрел на то, что у меня получалось.
Получилось у меня не очень. Впрочем, нет, крови не было вовсе, на подкладке осталось продолговатое пятнышко, а кровь в ране быстро темнела и застывала на ошметках перепонки бугристыми наростами. Края раны оказались рваными оттого, что по ним попала извилина лезвия. Я осторожно прижал к руке тряпку и перевел дух.
Со следующей перепонкой я поступил умнее. Заранее набрал в грудь воздух и чисто перерезал перепонку одним-единственным движением. Опять боль и долгий взгляд вверх, в звездное осеннее небо, прикрытое листьями клена. В этот раз крови было еще меньше, хотя боль была невыносимой, а раны начало вдобавок пощипывать. Зато два пальца теперь двигались совершенно свободно. Я еще раз промокнул ранки, пошевелил пальцами и спрятал подкладку в карман куртки. Потом достал пистолет. Теперь он еле-еле, впритирочку, но все-таки умещался в моей маленькой руке, и кончиком указательного пальца я сносно доставал до спускового крючка.
Лысого я видел хорошо. Вернее, его лысину, а лицо было скрыто в кусте. Значит, и целиться нужно чуть ниже лунного блеска, исходящего от его головы.
Я вспомнил, как держала свой пистолет Изабель, и вытянул руку. Боль теперь не мешала, придавала даже некоторую сосредоточенность.
Я вспомнил, что пистолет может дать осечку. патрон может заклинить, и вообще, может, у меня глаз косой и рука нетвердая, но…
И я вытянул руку.
Никогда не стрелял…
Я спокойно, даже строго посмотрел вперед и, не торопясь (но и не особенно раздумывая, решительно) потянул… этот самый… спусковой крючок.
Грохот двух выстрелов, прозвучавших почти одновременно, заставил меня в ту же секунду отскочить на ветку справа, и поэтому свиста ответной пули лысого я уже не услышал. Вижу я, может, и не лучше, но вот в скорости реакции человек не может со мной тягаться, это уж точно.
Лысины внизу больше не было. В кусте гречихи было темно, но свет лупы освещал лежащее на земле тело.
Шумно дыша, но все еще почти не шевелясь, я спрятал пистолет в карман и судорожно уцепился за дерево. С каким-то запоздалым испугом я смотрел на поверженного врага и не решался слезть. А вдруг я его не убил? Я подождал еще немного, спрыгнул вниз, в любую минуту готовый к атаке, и подошел. У мужика ровно между глаз темнела дырка от пули. От моего, значит, выстрела. Лысый не шевелился. Свой второй пистолет он сжимал в руке. Я не стал его трогать, вытащил пистолет и выстрелил ему еще раз в голову. Я такое у Изабель по телевизору видел, так делают все люди, когда хотят убедиться, что их противник уже точно не встанет. Ну, и я так сделал.
Теперь следовало, как говорят люди, «уничтожить следы». Вообще-то, на нашем языке это звучит очень смешно, и правильнее было бы сказать – «убрать следы». Но и «убрать следы» – тоже обхохочешься. Ну, ладно. Я знал, что люди, когда найдут труп, исследуют вокруг него каждый миллиметр, и уж какие-то мои следы там обязательно найдутся. Хотя бы запах. Остальные следы они не смогут уловить. Мой запах очень сильно отличается от человеческого, и если люди приведут на это место собаку, она обязательно найдет ход к дыре, так как я из нее вышел днем, найдет, даже если сейчас я всю дорогу буду передвигаться по деревьям. А искать они будут от трупа. Так. Я вытащил из кармана пачку «Кэмэла», украденного сегодня в лавке. Пригодилась. Надо сбить собаку другим сильным запахом. Распетрушив почти всю пачку, я посылал табачными крошками вокруг трупа и весь свой путь от трупа до дерева. Немного отошел и вспрыгнул сразу очень высоко на широкую ветвь клена, где я все это время находился. Баллистическая экспертиза покажет, что смертельный выстрел был произведен с дерева, и поэтому я тщательно натер остатками табака те участки ветвей, на которых я сидел, присовокупив еще и свой табак из кисета. Его крошки я аккуратнейшим образом подобрал и спрятал. Не нужно, чтобы люди нашли здесь крошки табака, которого у них ее существует. Совсем не нужно.
Перескочив на другой клен, я поскакал по деревьям по направлению к озеру. Мне надо было избавиться от пистолета. Я мог бы, конечно, отнести его к нам и там утопить, но подумал, что огнестрельному оружию не место в нашем мире. Пока еще никто не притащил, и хорошо. И я не буду.
Добравшись до озера, над которым стоял замок, я нашел низко свисавшую ветку и осторожно плюхнул пистолет в темную холодную воду. Если его теперь и найдут, на нем уже не будет ни моих отпечатков пальцев, ни следов крови.
С трудом шевеля разболевшейся пораненной рукой, я опять же по деревьям двинулся потихоньку к своей дыре. До дома было еще далеко, но я уже предвкушал, как Дитрих промоет и перевяжет мне раны. Эммерих приготовит вкусный легкий ужин, мы поедим и ляжем спать, не видя ни лунного света, ни осеннего звездного неба.
Москва, 11.03.2005 г.