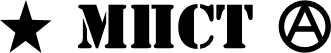Некоторое время назад один хороший человек попросил меня написать текст как если бы я писал предисловие к вышедшей на русском книге Питера Гелдерлооса «Как ненасилие защищает государство». Вот что вышло из этой затеи…
Друзья, мы с вами живём вдали от мест, где обычно кочует анархо-путешественник Питер Гелдерлоос. А потому некоторые даже общечеловеческие проблемы, к каким, безусловно, относится вопрос насилия, в нашей культурной среде имеют своё звучание. Во-первых, «западный» человек с послевоенных времён воспитывается в духе пацифизма, подавления и канализации агрессии, а также восприятия человеческой жизни как высшей ценности (отсюда все моратории на смертную казнь и многие другие изобретения «западной цивилизации»). Наш брат не таков. Советский человек взращён в режиме «Если завтра война, если завтра в поход…» — и спустя четверть века после краха красной империи, милитаристский компонент нашего мироощущения по-прежнему весьма актуален. У такого положения дел есть свои плюсы и минусы. Об этом далее.
Итак, если в привычных Питеру краях пацифизм стал идейным мэйнстримом, сортом самоцензуры и довлеющей мировоззренческой канвой, то в Восточной Европе он по-прежнему выглядит нонсенсом. О нём вспоминают власть предержащие, когда нужно заклеймить кого-либо, осмелившегося нарушить монополию государства на насилие. О нём вспоминают либералы, когда речь идёт о любом насилии, кроме того, что вовсю творят их западные кумиры в странах третьего мира и не только.
И наконец, о нём вспоминают некоторые люди, называющие себя анархистами… по большей части тогда, когда им не нравятся действия их же коллег по анархистскому движению. Данная проблема в постсоветском анархистском движении впервые проявилась во время «террористических» действий Новой Революционной Альтернативы в 90-х годах. Тогда группа лиц из числа анархо-активистов поспешила публично откреститься от действий НРА, критикуя и идейную базу и методы борьбы… Вновь вопрос встал ребром несколько лет назад, когда разгорелась дискуссия по поводу деятельности т. н. «повстанческих анархистов». Деятельность эта сводилась в основном к актам саботажа против враждебных материальных объектов. На горизонте замаячили нешуточные репрессии и забрезжила вероятность того, что движению придётся переформатироваться, и оно никогда уже не будет таким, каким прежде. В этот момент вновь поднялись голоса «Провокация!», «Не наш метод»… снова заговорили о ненасилии, часто те же самые лица, что проявили себя и в 90-х. Впрочем, «идейный пацифист» в российском анархо-движении — по-прежнему диковина, в силу всё того же идейного наследия, о котором мы говорили в начале. Потому «критика» велась, в основном, в духе: мы не против революционного насилия вообще, но оно бессмысленно и губительно сейчас. Так как «вообще» имеет свойство никогда не наступать и вообще к реальности почти не имеет отношения, то данный подход оказался по сути идентичным с пацифистским. Здесь проявились и двойные стандарты пацифистов, которым уделил внимание в своём памфлете Питер Гелдерлоос. Так, силовой антифашизм, существующий в России с первой половины нулевых, тесно связанный с анархистским движением, являлся и остаётся по сути неприкосновенной «священной коровой», одобряемой или, по крайней мере, толерантно переносимой подавляющим большинством участников движения, хотя связан с насилием значительно в большей степени, чем «повстанчество». Таким образом, российские «ненасильники» сосредоточили острие своих нападок на действиях, причиняющих вред не живым людям, а материальным объектам. «Насилие», таким образом, имеет для них в большей степени символический смысл. И осмелимся предположить, что мотивом, побудившим этих людей начать масштабный публичный скандал, была боязнь за комфорт своей персональной жизни, который теоретически мог быть поколеблен в результате действий «повстанцев». Автор этих строк далёк от того, чтобы обвинять всех или большинство сторонников ненасилия в трусости, однако на российском примере шкурная боязнь вкупе с мелким тщеславием удивительным образом выступили в качестве фундамента «пацифистской» активности. В итоге эта активность привела только к значительному разладу внутри движения и значительному расходованию энергии и сил на внутренние склоки вместо борьбы за светлое будущее. Вот и весь результат. «Пацифистская» сторона выступила в качестве реагирующей на инициативы других, препятствующей починам и действиям «инакомыслящих» анархистов. Ничего «конструктивного» и «созидательного» в такой ситуации не может быть априори. На данный момент дискуссия о насилии в анархистском движении почти сошла на нет, уступив место более экзотическим и чудовищным распрям. Но нет сомнения, что в критической ситуации политических и социальных перемен — эта проблема вновь встанет для нас во всей остроте и потребует решения.
По сути мы имеем дело с феноменом пацифизма порабощённых — от совершения «насильственных» действий удерживает страх перед мощью государственной репрессивной машины. Она ведь и существует затем, чтобы внушать страх, а в действие вступает лишь в тех крайних случаях, когда страх не подействовал, и умиротворение окормляемого стада нарушено. Неслучайно в древнем мире пацифизм считался добродетелью только для рабов, которым предписывалось предпочитать мирную несвободу вооружённой борьбе за освобождение. С той поры утекло много воды, смягчились формы социальных иерархий, а на их страже теперь стоит больше красивых слов, но суть явления, очевидно, осталась незыблемой.
Автор этих строк провёл две февральские недели в Киеве. Было поистине поразительно видеть, как реальность сама разрешает вопрос насилия. О неприемлемости насильственных действий твердил теперь уже бывший президент, его сподручные и СМИ, на этом же настаивали представители оппозиционного истеблишмента из парламента. Насилие было жупелом, ненасилие — разменной картой в борьбе за власть. Однако для рядовых участников протеста всё очевиднее становился факт, что посредством «мирного диалога» изменить ситуацию не выйдет. Цель — свержение Януковича — предстояло достичь явочным порядком. Когда 18 февраля утром начался «мирный наступ» на правительственный квартал и вскоре был остановлен силами «Беркута», начались столкновения, носившие гораздо более ожесточённый характер, чем ритуальные «беспорядки» в западных странах. Тогда ещё не было ясно, что правительство применит и огнестрельное оружие. Вопрос о «правомочности» насильственных действий со стороны народа в этот момент попросту отпал. Вполне вероятно, что насилие начала или спровоцировала милиция, но я настаиваю на том, что в данном случае это не имеет никакого значения. Люди тысячу раз имеют право бросить первый камень и первую бомбу в своих угнетателей. По этому поводу можно много мудрствовать, но в моменты, подобные тому зловещему февральскому дню — истинность этой простой идеи чувствуется со всей явностью.
И ещё как лирическое отступление: сопоставьте «насильственный» Майдан и нашу ненасильственную Болотку — и кое-что может проясниться. Там где у народа вдосталь отваги и дух его высок — там едва ли диалог с угнетателями будет мирным, в иной ситуации — он едва ли будет плодотворным.
Разумеется, насилие опасно. Опасно оно не только тем, что прямо влечёт за собой жертвы и страдания, но так же и тем, что накладывает отпечаток на того, кто его применяет. Чувствовалось это и на Майдане, где многие «самооборонцы» угрожающе расхаживали разодетые в маски и броники, поигрывая щитами и дубинками и поглядывая на окружающих свысока, ведя себя довольно хамски… Чувствуется такое и в рамках либертарного движения в России с его милитаристским крылом, полагающим, что способность применить силу есть повод для высокомерия и самопревозношения. Разумеется, насилие развращает и создаёт опасность проявления в структуре личности садистских и авторитарных наклонностей. Но насилие в то же время имеет и большой освободительный потенциал. Оно возвращает восставшему достоинство и веру в свои силы. Революционное насилие переживается как доброе дело, проявление благородства и чувства справедливости. Именно так — в контексте борьбы против власти насилие есть не «вынужденное зло», а добро и манифестация справедливости. Посему попытка элиминировать его из сознания борца за свободу, стремление отгородиться от него — есть нечто глубоко противоестественное, лицемерное и в конечном счёте пагубное с точки зрения революционной перспективы.
Д.Ч. — МПСТ