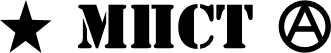Кто может объяснить, почему говорят: «Свободный художник», но не говорят «Свободный сапожник»? Чем сапожник принципиально отличен от художника? Тем, что не имеет отношения к искусству? Загляните хотя бы в музей народного искусства, и вы обязательно увидите там одежду и обувь, действительно являющиеся произведениями искусства. Да что там музеи народного искусства, в оружейной палате можно увидеть какие-нибудь царские сапоги, на которые люди приходят посмотреть не потому, что они были царскими, а потому, что они — шедевр.
Может быть потому, что работа сапожника имеет не только эстетическое, но и прикладное значение, а работа художника такового не имеет? Снова неверно — самые первые картины имели вполне бытовое назначение. Первобытный художник рисовал на стенах те или иные сцены, чтобы оставить в памяти потомков какое-то важное событие (удачную охоту, гибель охотника, переселение племени), либо чтобы затем проводить над рисунком колдовской обряд, обеспечивающий, по мысли рисовавшего, успех на охоте. Средневековый богомаз рисовал икону не для того, чтобы ей восхищались в музее, а для того, чтобы на нее молились (это мы сейчас знаем, что религия — опиум для народа и молитва бесполезна, а тогда люди думали иначе). Нико Пиросмани рисовал обычные вывески. Да и в наше время художникам приходится выполнять вполне утилитарную работу — например, в экспедициях художник рисует всевозможные схемы и планы.
Это касается не только художников, но и музыкантов, скульпторов, поэтов — словом всех, кого принято считать «людьми искусства». Первыми скульптурами были украшения на первобытных орудиях охоты и фигурки идолов; первыми стихами — исторические, юридические или культовые тексты, для лучшего запоминания зарифмованные или «заразмеренные»; музыка родилась из звуков пастушьих и охотничьих рогов и военных сигналов. Все произведения искусства, начиная с палеолита и кончая поздним средневековьем, имели прикладной характер. И вместе с тем, все предметы быта от палеолетической копьеметалки, украшенной фигуркой лошади, до крестьянской избы с окнами, украшенными резьбой — все они были произведениями искусства. Люди не делали разницы между обычным трудом и творческим. Андрей Рублев называл себя богомазом. Ремесленник, шивший обувь для Ивана Грозного или Бориса Годунова — сапожником. Почему же теперь назвать художника богомазом значит оскорбить его, а слово «сапожник» кричат в кинозалах неумелым киношникам, если работы богомазов и сапожиков украшают лучшие музеи мира?
Разделение прикладного и эстетического началось в буржуазную эпоху, когда труд из средства удовлетворения потребностей превратился в средство наживы. Погоня за наживой породила ширпотреб, который, хоть и дешевле шедевра на рынке, зато еще более дешевле по себестоимости и быстрее в изготовлении. Отчужденный труд отбил у работника всякую охоту вкладывать в свои изделия душу. Рабочие-нелегалы на московских стройках строили, по словам их прораба, с такими нарушениями, что ему про это даже рассказывать страшно. Но что можно требовать от нелегала, которому платят ровно столько, чтобы он не помер с голоду, а то и вовсе не платят (помрет — найдут другого), и который не только что в построенном им доме жить не будет, но и в Москве-то скорей всего не задержится, а в доме поселиться какой-нибудь новый русский, для которого этот самый нелегал даже не «чурка понаехавший», а вообще никто и ничто, пустое место, как можно требовать после этого от нелегала хорошей работы? Легальному рабочему, тем паче «своему» и платят больше, и чморят его меньше, но все равно не настолько хорошо платят и не настолько мало чморят, чтобы он вкладывал в работу свою душу.
К тому же погоня буржуазное общество отупляет людей. Кропоткин писал, что для искусства нужна идея. Какая идея может быть в обществе наживы? Побольше захапать, поменьше отдать? Не густо для искусства. У первых буржуев-революционеров, была хотя бы та идея, что они ни чем не хуже дворян, что не рождением определяется значение человека. У их наследников, живущих в условиях победившего капитализма нет даже этого. Какое тут искусство? Да и все большее разделение труда, превращающая человека в профессионального кретина, не оставляет места для восприятия искусства.
Пока у людей сохранялись эстетические потребности, искусство удерживалось хотя бы в некоторых областях: живописи и графике, музыке, литературе.. Все большее отупление и духовная деградация людей добило и эти последние бастионы. Если могут быть ширпотребом одежда и обувь, то почему не могут быть книги или песни? Тем более, что «пипл хавает». И вот мы видим попсу на сцене, ярко раскрашенную макулатуру в книжных магазинах, совершеннейший бред в телевизоре…
Возрождение искусства возможно только в возвращении к единству эстетики и утилитарности. Их на самом деле невозможно разделить, как невозможно разделить физиологические и духовные потребности человека. Не случайно самые мощные всплески искусства последнего времени связаны именно с попыткой такого преодоления. Монументальная живопись в Мексики, плакаты революционного времени в России порождение этой тенденции. Тенденция эта не получила развития именно потому, что ни мексиканская , ни русская революции не сломали буржуазное общество и сами не вышли за рамки буржуазных революций, хотя потенциал к этому в них был. Если капиталистическое, индустриальное общество в конце концов будет сломано и если на смену ему придет коммунистическое, то проблема эта будет решена. Труд, переставший быть проклятием и служащий удовлетворению потребностей, такой труд обязательно станет творческим. Но есть и обратная связь. Нельзя бороться с системой не отвергая ее законы. А потому в нашей борьбе мы не должны делать разницы между прикладной работой и искусством, между формой и содержанием. В газете ли, в плакате ли, в лозунге должна быть и практическая и польза и красота. Не должно быть места ни «чистому искусству» ни уродливому лозунгу. Все должно быть едино.