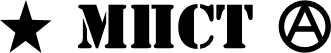РАССКАЗ РАБОТНИЦЫ РЯЗАНСКОГО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА.
…Что у нас нового на заводе?
Начну с того, что хотя считается, что система зарплаты на заводе — сдельно-премиальная почасовая, но твердая зарплата составляет лишь 20-30% реальной зарплаты, все остальное — премии. А премия, как сказал председатель профкома на заводе, определяется мастером, который оценивает твое старание. На самом деле, не только мастером, но и всем прочим начальством, которое оценивает рабочего по тому, насколько он готов начальству угождать, платит за красивые глаза. С премиями зарплата — 6 тысяч, кому премий не дают — 1400-1700 рублей (у меня в прошлом месяце — 1200 рублей, основная зарплата — это сдельщина, по количеству деталей).
Кто работает по субботам — тому добавление к зарплате, кто не работает, считается врагом народа, я не выхожу работать по субботам, потому ко мне такое отношение, но вообще мало кто не выходит. Один парень сказал, когда его спросили, почему он не выходит работать по субботам: ‘А я не хочу в твой карман залезать. Я выйду, а ты не выйдешь, тогда из твоей зарплаты вычтут и мне дадут, а если наоборот, из моей вычтут и тебе дадут’.
Первые 10 дней нового года — праздничные дни, однако нам предложили работать и в них. Мало кто отказался — человек 5 из 100 в нашем цеху. Однако вышедшие сами себя обманули. Премиальный фонд — не резиновый, если бы на праздничные дни вышло бы работать мало человек, каждый из них получил бы большую премию, но вышли почти все — и получили лишь по ничтожной прибавке.
Забавно, что декабрьскую зарплату распределяли в начале января, когда было уже известно, кто отказался работать в праздники. Отказавшиеся работать в январе лишились премиальных и за декабрь. Нет, их больше не прессовали. Посадили на 1200 — 1500 рублей — и все.
А потом начались морозы. Начались они 16 января, в понедельник. Утром на работу ехали — еще тепло, а назад с работы — жуть. 17 января в городе погода -38, по области все -4, в цехах +5. Наденешь по пять свитеров — и работаешь. Самые холодные дни были с 18 по 20 января, в цехах -7, а то и -10. Заболели на следующей недели человек 10. Станки отказывались работать из-за того, что эмульсия при такой температуре замерзала, отказывалась электроника, станки стояли в сосульках. А люди у нас крепче машин, все работали, никто не протестовал — хотя в трудовом договоре у нас написано, что можно не работать при -18 на улице, и начальство это прекрасно знало.
Работать было нельзя — из-за станков, но с завода все равно никого не выпускали. Одного рабочего начальник цеха спросил ‘Почему не работаешь?’ — ‘Холодно’. — ‘Тогда иди домой’ — ‘И пойду’. Какой там пойдет! На заводе пропускной режим, до конца смены все равно не выпустят.
Под конец в некоторых цехах стали разжигать костры.
Я с несколькими девчонками не работала, отогревались в туалете, у термических труб. Потом премиальных лишили — ‘меньше надо было в туалете сидеть’.
Это еще что! На другом заводе в городе, на ТКПО, где прессы делают, работали на пилораме на улице при морозе в -40. Какая там уж работа! Час работают, час в помещении отогреваются! Я вот чему удивляюсь — начальницей у них была баба какая-то, а они, здоровые мужики, нет чтобы взбунтоваться и ее к черту послать — все терпят.
Как вообще дела на заводе? Стагнация, затяжной застой! Говорят о экономическом росте — чушь все это. В начале 2000-х годов у нас на заводе было 11 тысяч человек, сейчас — меньше 3 тысяч. Из них соотношение основных рабочих и всех остальных (администрация, инженера, уборщицы и т.д.) 1:5, т.е. основных рабочих не больше 500 человек.
Мало заказов. Когда заказов мало, не нужно, чтобы рабочие много делали, хотя их пытаются это заставить. Чем меньше необходимость в количестве произведенной продукции, тем больше зарплата определяется красивыми глазами.
Когда производство идет ко дну, все штафирки вынуждены в глазах начальства изображать бурную деятельность, а так как количество заказов увеличить не могут, то сокращают производственные расходы всякими способами — произвольным снижением расценок и экономией материала — из-за такой экономии рабочие вынуждены все время бегать и выпрашивать материал для обработки, отсюда простои, за которые не платят.
Зато купили 60 наблюдательных камер — будут устанавливать в цехах, чтобы контролировать, как рабочие работают.
Начальства много. У начальника цеха зарплата 30 тысяч рублей в месяц, у мастера — 7 тысяч, это немногим больше, чем 6 тысяч, которые получает квалифицированный и живущий в ладах с начальством рабочий.
Почему заказов мало? Наше начальство астрономически завышает цены на станки, хотя если бы в стране на самом деле был экономический подъем, станки раскупались бы по-любому, т.к. они всем нужны и хорошие.
В прошлом году 4 месяца сидели на 2/3 работы и зарплаты. А начальство говорит, что нас ждет бурный рост, не уходите с завода, нам нужны молодые кадры, потерпите еще чуть-чуть — и вы загнетесь молодыми.
Застой не только у нас. Комбайновый давно стоит, приборный — тоже.
Что делают? Расчленяют завод на малые предприятия, которым положены льготы, в каждой такой фирме — свой директор и свои шарашки, свой отдел кадров — паразитов еще больше.
Что делать? Вся ваша революционная деятельность — пустое колыхание воздуха и бумагомарание.
Вся ваша пропаганда и агитация — впустую, рабочие все из непосредственного опыта знают, они — не идиоты, но сейчас существует полная политическая импотенция рабочего класса. Что рабочие хотят, что они знают — от этого все равно ничего не меняется. От того, что рабочие чего-то хотят и что-то знают, объективных результатов нет. Рабочие все понимают, но ничего не делают.
Рабочие поднимутся только тогда, когда им по башке достаточно надают, а сейчас им мало дают, если они соглашаются работать при -10 мороза в цеху. Они ждут своего предела, и никто не знает, каким может быть этот предел. Чтобы это могло быть — даже думать не хочу, мне это не интересно.
Насмотришься такого и думаешь: как люди держатся! Вот молодцы, сволочи!
Я не собираюсь чего-то делать за рабочих, бороться за них, бегать за ними, особенно с подсвечником, как Диоген с фонарем бегал, людей искал. Мерзнете — и мерзните.
В Твери рабочего активиста убили? Один выступил — никто не поддержал, никаких стачек с требованием разбирательства, ничего. Он один выступал — все кругом молчали.
‘В битве великой не сгинут бесследно Павшие с честью во имя идей…’? Что ж, блажен, кто верует, только он дурак.
Слишком крепки на заводе совковые, старообрядческие порядки. Мастера можно послать (беззлобно, как своего дядьку, мастера — свои), а вот серьезного жира — нет.
На нашем заводе молодежь есть, но ее мало. Пришло некоторое количество молодежи в начале 2000-х годов, но эта молодежь никак не повлияла на заводские порядки, а была переварена и подчинена ими. Сказать, что заводы молодые — нельзя, хотя помолодели. У нас на заводе молодежь ситуацию не определяет, она ведет себя так, как ведут старшие рабочие. В каждой экстренной ситуации вся эта муть, все это старичье задает тон (хотя это, может быть, актуально не для всех заводов).
Вообще, на завода густая система неформальных отношений рабочий между собой и рабочих с начальниками — каждого рабочего с каждым начальником. Все это очень косная система, вязкая среда, пришлому человеку ее изменить невозможно. Может быть, лучше обстоит дело на предприятиях, где большая текучесть рабочих кадров — там рабочие не так сильно держатся за свое рабочее место и не так сильно повязаны личными отношениями с начальниками.
Все наше общество — дерьмо, но рабочие — дерьмо, меньше других воняющее. Есть рабочие замечательные, которых нельзя не любить, но таких — единицы, и из них не может составиться партия, они не будут готовить революцию (и я тоже не буду, а что враждую с начальством — так это мое личное дело).
Сейчас период такой — осознания, люди понимают, что к прошлому возврата нет и не может быть, и они начинают задумываться о будущем, но делать пока ничего не готовы. Возможно, для этого нужен какой-то толчок — чтобы пробудить их активность — не только интеллектуальную, но и политическую.
У нас сейчас — эпоха безвременья.
И делать я ничего не буду. Это капитуляция? Да, бесспорно.
…Едешь в троллейбусе — противно, бессмысленные лица, горы человеческого мяса, все друг другу чужие.
…Я хотела бы родиться на 200 лет позже и жить при коммунизме, заниматься любимым делом — делать станки (справимся лучше буржуев) и выращивать цветы. Когда-то я мечтала родиться на 100 лет раньше. Но ведь мы знаем, чем тогда кончилось, знать больше — лучше, у нас есть опыт 1905г. и 1917г., может, он еще пригодится.
Я хотела бы верить в светлое будущее, но я не знаю, наступит оно или нет, и я не верю, что я для него смогу
что-нибудь сделать.
Я прочитала в какой-то газете, что когда-то до людей на Земле существовала другая цивилизация, у ее создателей объем головного мозга был в три раза больше нашего. Потом она погибла. Наверное, также погибнет и наша цивилизация, людей сменят другие существа с объемом мозга в три раза меньше человеческого — и от всех нас даже памяти не останется.
…Ненавижу деревенщину. Природу люблю, а деревенщину ненавижу. И Есенина ненавижу. Завод — свое, родное…
…А всех интеллигентов расстреливать надо, всех, кроме научно-технических. Особенно расстреливать надо тех интеллигентов, которые завлекают рабочих на революцию. Рабочие, сволочи эти, сами разберутся, у них и у интеллигентов — разные революции.
Марлен Инсаров
ДЕВУШКА — БУНТАРКА И СТОЯЧЕЕ БОЛОТО
Таких было очень много 100 лет назад, и очень мало осталось сейчас, да и те, что остались, недолго выдерживают высокого накала. Пламя не может гореть в стоячем болоте, оно гаснет, и лишь иногда из-под угля и золы вылетают вдруг искры. Угаснут ли и они — или пламя разгорится снова — кто рискнет предсказать, может ошибиться.
Порывистая, угловатая, с быстрой походкой, нетерпеливая и нетерпимая — и очень привлекательная в своей нетерпимости. Талантливый музыкант и художник, высококвалифицированная рабочая (как дойдет до дела, она и такие, как она, смогут управлять производством куда лучше ‘серьезных жиров’, которым нужно не производство, а прибыль). Целостная, всесторонняя, очень привлекательная личность, волею капитализма и своим собственным честным выбором обреченная за 1200 в месяц производить прибыль для ‘серьезных жиров’ в цехах, где мороз -10. Не беремся судить, какими будут люди при коммунизме, но если такими, как она, будет немалое число людей эпохи борьбы за коммунизм, победа в этой борьбе возможна — если наряду с подобным типом будет существовать и другой тип, тип людей, знающих ‘одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть’. Честный, надежный товарищ. Грамотная и думающая. Смелая и бескомпромиссная, куда решила, туда и пойдет, не оглядываясь на прошлое. Человек девятого вала, для кого губительной оказалась обстановка штиля. Такие, как она, не могут и не хотят готовить революцию, но когда придет пора делать революцию, они (кто доживет, не сопьется и не будет совсем засосан обывательщиной) окажутся на своем месте. В общем, замечательный тип пролетария и человека — лучше такого типа мало кто бывает — знатоки одной лишь думы и одной лишь страсти не так привлекательны, Хотя в некоторые эпохи куда как более полезны — те, кто знает лишь одну думу и одну страсть, сильнее покалечены капитализмом, но именно поэтому куда более способны непрерывно бороться против него.
Но почему даже она (и такие, как она) ничего не делает и не собирается (если верить ей) делать, а живет, как живется, хотя и тошно бывает порой на душе, но от тошноты можно найти какое-то отвлечение вроде цветов, рыбок, футбола, бильярда — по вкусу.
Сменилась эпоха. Умерло — и не возродится — время рабочего социализма, приверженцем которого долгое время была наша героиня, пока, не наглядевшись на реальных рабочих, не пришла к пессимистическому выводу о будущей гибели человечества и не ушла душой в выращивание гераний.
Рабочий социализм господствовал в социалистическом и рабочем движении целую эпоху — с 1870-х до 1960-х годов, эпоху кровавых боев, великой самоотверженности и чудовищных поражений. Теперь эта эпоха в прошлом — и пришла пора подвести ей итоги.
Приверженцами рабочего социализма были в первую очередь все марксисты — от эсдеков (до их окончательного обуржуазивания) до германо-голландских левых коммунистов. Кроме того, к рабочему социализму относились и некоторые другие течения социалистического движения — например, революционный синдикализм, весьма сильный во Франции и в США в начале 20 века. Для приверженцев рабочего социализма аксиомой и сладостной музыкой звучали слова марксова ‘Капитала’: ‘… Вместе с постоянно уменьшающимся числом магнатов капитала, которые узурпируют и монополизируют все выгоды этого процесса превращения, возрастает масса нищеты, угнетения, рабства, вырождения, эксплуатации, но вместе с тем растет и возмущение рабочего класса, который постоянно увеличивается по своей численности, который обучается, объединяется и организуется механизмом самого процесса капиталистического производства…’. В ту пору казалось, что прогресс капитализма автоматически ведет к прогрессу пролетарской революционности, и когда-нибудь столь же автоматически приведет к победе революции пролетариата. О такой ‘мелочи’, как факт, что в странах самого развитого капитализма, Англии и США, революционное рабочее движение всегда было слабее, чем в отсталой России, благодушные прогрессисты предпочитали не задумываться.
В период триумфа марксистского оптимизма иногда раздавались глухие, пессимистические голоса, отрицавшие предустановленную гармонию прогресса капитализма и роста революционности пролетариата. Исходили эти голоса от представителей другого, немарксистского революционного движения, а иной раз даже от склонных к свободомыслию марксистов. Поскольку в ту пору казалось, что все идет к лучшему в нашем лучшем из миров, эти голоса не приобрели тогда большого влияния. Но в современную эпоху упадочного капитализма теоретики, разрывавшие связь между прогрессом капитализма и революционностью пролетариата и подчеркивавшие, что капитализм не лечит пролетариев от мелкобуржуазных предрассудков, а калечит и уродует их — эти прозорливые революционные теоретики прошлого времени достойны упоминания.
Вот, например, что писал в своей работе ‘Итоги и перспективы’ второй после самого Махайского идеолог махаевщины Е. Лозинский: ‘Стадность, а не общественность развивает в рабочем крупная машинная индустрия, а вместе с этим и крайнюю пассивность, впечатлительность, внушаемость, автоматичность… Стягивая одной рукой рабочие массы в крупные фабричные центры, современный капиталистический прогресс другой рукой лишает их уже последних жалких остатков умственной самостоятельности, воспитывая из них послушных — ‘сплоченных’ и ‘организованных’ — рекрутов международной социалистической интеллигенции… Весь современный прогресс есть, в сущности, развитие, ‘усовершенствование’ форм насилия, эксплуатации, обмана, лицемерия, жестокости, усиления массовой стадности и автоматичности, и воспевать ему гимны, преклоняться перед его разумностью и целесообразностью могут лишь те, кому он несет благосостояние, счастье, силу, власть. У пролетариата же может и должен быть лишь один приговор: вечное проклятие… Итак, процесс капиталистического развития отнюдь не подымает благосостояние пролетариата, не увеличивает шансов его победы, не укрепляет его позиции, не повышает его знания, его сознательность, не содействует его истинной сплоченности, не уменьшает числа его врагов, не уменьшает их социальной мощи. Если социалисты утверждают противное, то это в достаточной степени объясняется железной логикой представленного ими классового интереса новых, быстро умножающихся хищников’.
Прошло сто лет, и вопрос о том, кто был прав, Маркс или Лозинский, может быть решен. Судя по описанию рязанских станкостроителей, покорно работавших (или делавших вид, что работают, т.к. на замерзших станках работать было все равно невозможно, но с работы не уходивших и против начальства не бунтовавших) при температуре -10 в цеху — поведение, которого трудно было бы ожидать от российских рабочих 100 лет назад, мы можем считать, что прав был Лозинский. Для особо непонятливых добавим, что данное свидетельство подкрепляется множеством других фактов, по которым можно делать сравнения между современными рабочими и рабочими 100-летней давности.
Для сторонников рабочего социализма промышленный рабочий был высшим типом человека. Ошибка марксистов состояла в том, что они не понимали, что известные им революционные рабочие были революционными и думающими не потому, что были рабочими капиталистической промышленности, а потому, что еще не успели окончательно стать таковыми. Костяк революционного рабочего движения старых времен составляли грамотные, высококвалифицированные, обладающие способностью к критическому мышлению рабочие ремесленного и полуремесленного типа (другую более многочисленную часть пролетариата составляли вчерашние крестьяне и ремесленники, сохранившие навыки общинного или артельного коллективизма). Прогресс капитализма вел именно к уничтожению подобного типа всесторонних рабочих, к смене его односторонним конвейерным рабочих, преобладающей чертой капиталистического прогресса была тенденция к деквалификации. Как пишет об этом В. Дамье: ‘Внедрявшаяся техника… дробила работу на предприятии на множество участков, где простые рабочие все время выполняли одни и те же серийные операции, в то время как отделенные от них менеджеры и администраторы сосредотачивали в своих руках организацию производства, раздробление труда и контроль над ним. Последние ремесленные навыки целостности и самостоятельности труда у работников утрачивались, представление о его смысле и цели исчезало, а вместе с ним и стремление рабочих взять производство под свое управление… Отупляющая, однообразная конвейерная работа превращала рабочего в простого исполнителя и приучала не рассчитывать на что-либо большее’.
Разумеется, эта тенденция не была всеобщей, сохранялись и сохраняются и высококвалифицированные рабочие (к их числу принадлежит наша героиня). Но эти высококвалифицированные рабочие превращались в меньшинство, не могущее опереться на основную рабочую массу, к тому же сами все больше подвергались буржуазному перерождению.
Когда мы говорим о ‘обуржуазивании’ рабочих, мы, в отличие от марксистов и либералов, говорим совсем не ту чушь, будто рабочие где-нибудь достигли буржуазного уровня жизни. Они его не достигли и не могли достичь в подавляющем своем большинстве. Однако они его захотели достигнуть. Рабочие остались рабочими, буржуи — буржуями, но значительная часть рабочих переняла буржуазную ориентацию на индивидуальный успех.
Раннее рабочее движение имело совсем другую ориентацию. Оно боролось не просто за индивидуальное или групповое материальное благополучие, но за то, чтобы мир, основанный на конкуренции, заменить миром, основанном на товариществе. Общественной иерархии оно противопоставляло человечье достоинство, конкуренции — товарищество, принципу ‘каждый сам за себя’ принцип ‘каждый за всех и все за каждого’, наконец, труду как неизбежному проклятию с целью заработка — труд как самореализацию, как вызывающее гордость увековечивание себя в том, что создано тобой, но тебя превосходит. Подобное отношение к труду типично для ремесленников, возможно для высококвалифицированных заводских рабочих, но немыслимо для рабочих на конвейере, где они тупо выполняют однообразные операции.
Именно подобные моральные ценности влекли к рабочему движению раннего периода лучших людей из буржуазного мира, порывавших с ним как с враждебным их человеческому достоинству. Не желание примазаться к неизбежному в силу исторических законов победителю приводило на сторону угнетенного класса лучших выходцев из буржуазного мира — от Софьи Перовской до Шарля Бодлера, но желание уничтожить вместе с этим классом ненавистный буржуазный мир и разделить горькое счастье угнетенных, у которых в те времена и вправду было жизненным принципом ‘и хлеба горбушку — и ту пополам’.
Одним из вождей парижского плебейства эпохи Великой французской революции был Жан Варле, интеллигент, выходец из зажиточной семьи и служащий почтового ведомства. Сперва он был обыкновенным буржуазным демократом, но, пожив в плебейских кварталах Парижа и пообщавшись тесно с миром бедноты, резко поменял свои позиции, и как пишет его советский биограф Яков Захер, пришел к выводу, что ‘ ‘только там (в предместьях. — Я.3.) находится родина свободы’. Правда, отсутствие образования мешает неимущим выполнить до конца ту роль, которую они могли бы сыграть при иных, более благоприятных условиях. Но даже и в своем нынешнем состоянии неимущие все же являются лучшей частью французского народа, и Варле с восторгом противопоставлял бедного и добродетельного труженика парижских предместий развращенным и реакционным аристократам. ‘В течение четырех лет, — писал Варле, — неизменно находясь на общественных площадях, в толпах народа, в среде санкюлотов…, я понял, что… Витающие на чердаках бедняки рассуждают умнее и смелее, чем хорошо одетые господа, краснобаи, идущие ощупью ученые. Если они хотят найти истинное знание, пусть они, подобно мне, приблизятся к народу».
Порывавших с буржуазным миром выходцев из него привлекало к народному (пролетарскому или крестьянскому — по ситуации) миру именно сохранение в нем коллективистских товарищеских отношений, гораздо раньше и радикальнее разложенных в эксплуататорских классах. Это, кстати сказать, доказывает, что коллективизм и товарищество более свойственны природе человека, чем алчность и конкуренция, и что психологический комфорт для не изуродованного капитализмом человека важнее комфорта материального.
Коллективистские товарищеские отношения внутри раннего пролетариата не были продуктом капиталистического прогресса, который, наоборот, разрушал их, атомизировал пролетариев, превращал их в толпу одиночек, претендующих на то, что каждый способен защитить себя сам и именно поэтому неспособных к реальной самозащите. Атомизация пролетариев происходила не только внутри заводов, но и вне их. Результатом подобной атомизации и стала пассивность пролетариата, которая подтверждается рассказом нашей героини. Американский анархист Мюррей Букчин пишет: ‘В чистом’ виде пролетариат как класс никогда не был угрозой капиталистической системе. Эта угроза была обусловлена ‘нечистотой’ пролетариата, как кусочки олова и цинка превращают медь в загрубевшую бронзу, что придало воинственность раннему пролетариату и на явно высоких ступенях его тысячелетние усердия… Рабочий класс теперь стал индустриализированным, а не радикализированным, как искренне надеялись социалисты и анархо-синдикалисты. У него нет ни чувства контраста, ни противоречия с традициями и ни одного из тысячелетних ожиданий его предшественников. Не только средства массовой информации управляют им и определяют его желания…, но пролетариат как класс стал копией буржуазии как класса, а не несдающимся антагонистом. Говоря языком, порожденным пролетарским социализмом против его собственных мифов, рабочий класс — просто орган в теле капитализма, а не развивающийся ‘эмбрион’ будущего общества’. Пролетариат конца 19 — начала 20 веков был, по мнению М.Букчина ‘особой социальной породой. Она была… стихийна в жизненном натурализме своего поведения, разозленная из-за потери своей автономии, и сохраняла своими ценностями разрушенный дух ремесленничества, любовь к земле и общинную солидарность.’ В большинстве русские рабочие рубежа 19 — 20 веков были вчерашними крестьянами. У них сохранялись присущие крестьянам — общинникам навыки коллективной самоорганизации и высоко развитое чувство солидарности. Даже высококвалифицированные имели корни в деревне. Ранние рабочие стояли между двумя мирами — миром помещичьей барщины и миром капиталистической фабрики — и именно поэтому могли остро чувствовать и понимать неправду обоих этих миров. Новые буржуазные порядки складывались на их глазах и потому не казались им вечными и естественными. Они могли увидеть правду будущего именно потому, что испытывали и неправду прошлого, и неправду настоящего.
Чем больше развивался капитализм, тем более росли атомизация, раздавленность, бессилие рабочего класса, его неспособность к коллективной борьбе, тем больше разрушались докапиталистические и антикапиталистические отношения в рабочей среде, и тем больше промышленный пролетариат из смертельного врага капитализма превращался в его покорного, хотя и недовольного, раба. И утрачивал возможность и способность к восстанию. Чем больше пролетарии перенимали ценности буржуазного общества, тем меньше они были готовы к борьбе против него, т.к. им нечего было этому миру противопоставить. К тому же одно дело, человек, обращенный в рабство, а совсем другое — тот, кто уже родился рабом. Людям, целиком сформировавшимся в условиях капитализма, эта система стала казаться незыблемой и вечной и никакого другого мира они уже помыслить не могли.
Изменение в рабочем классе и вытекающую отсюда необходимость изменения отношения к нему революционеров заметил в начале 20 века французский анархо-индивидуалист Виктор Серж (позднее ставший большевиком и писателем): ‘… Анархисты — не рабочисты. Для нас всего лишь детской наивностью является попытка возводить на пьедестал рабочих, чья презренная апатия, наверное, еще более ответственна за нынешнее жалкое положение вещей, чем алчность привилегированных. Мы — поклонники рабочих не больше, чем их хозяев. Они столь же невежественны и апатичны, их физический и моральный упадок еще более жалок. Это рабы создают господ, народы — правительства, рабочие — хозяев, это слабые, глупые, дегенераты создают общество — болото и принуждают нас плыть в нем. Они не знают, как вести себя по — другому. Они не знают другого способа жизни’.
При всей верности наблюдений Сержа (подтверждаемых через 100 лет на Рязанском станкостроительном заводе), невозможно не заметить в них элитизма, элитизма, присущего и нашей героине: есть мы — и есть рабочие. Если рабочие плохи, а мы — хороши (этот второй пункт подразумевается сам собой), то мы можем либо вовлекать рабочих в революционную борьбу какими-то хитрыми кунштюками, либо если нам это надоело, уйти в сторонку, ждать объективного развития ситуации, а до той поры заняться либо выращиванием гераней либо своей личной войной с мастером. Отсутствует другая, единственно правильная постановка вопроса, при которой нет деления на ‘мы’ и ‘они’. ‘Мы’ (будь эти ‘мы’ грамотными и думающими рабочими у станка или же пролетариями внезаводских видов труда) — это такая же часть пролетариата, как и другие пролетарии. Мы боремся не за ‘Пролетариат’, а за самих себя, как за часть класса пролетариев. Поскольку нельзя быть свободным, когда рядом рабы, борясь за себя, мы стремимся к освобождению всех пролетариев, наше слово и наше дело увлечет весь класс. Сила рождает силу, воля рождает волю. Мы — не мессии с комплексом превосходства, стоящие над пролетариатом, и мы не прокаженные с комплексом неполноценности, стоящие от пролетариата в изоляции. Мы — равноправная часть пролетариата, и если мы боремся, значит, борется пролетариат…
Вернемся немного назад. Революционным пролетариям первого поколения в большинстве их не был присущ рабочий шовинизм, презрение к деревенщине, культ индустриализма. Они боролись за социалистическое общество, которое включит в себя в переработанном виде все лучшее, что было в аграрном и в индустриальном обществах. Вот стих пролеткультовца Машерова — Самобытника:
Вихрь крутящихся колес,
Пляска бешеных ремней…
Эй, товарищ, не робей!
Пусть гудит стальной хаос,
Пусть им взято море слез,
Много сгублено огней —
Не робей!
Ты пришел от мирных рос,
Светлых речек и полей…
Эй, товарищ, не робей!
Здесь безбрежное — слилось,
Невозможное — сбылось…
На заре грядущих дней-
Не робей!
Наше счастье поднялось
По верхам седых гребней…
В царстве скорби и теней
Солнце мощное зажглось;
И горит оно сильней-
Не робей!
Словно каменный колосс
Стань у бешеных ремней…
Пусть сильнее шум колес,
В цепь еще звено вплелось…
Рать сомкнулася плотней-
Не робей!
Подобное отношение к технике было возможно лишь у рабочих первого поколения, недавно вышедших из деревни, сохранявших высокую квалификацию и видевших в технике не цель в себе, а лишь средство, облегчающее победу человеческого достоинства и целостной человечности, т.е. победу коммунизма.
Потом это отношение к технике стало меняться. Часть рабочих (прежде всего квалифицированных) прониклась индустриалистским духом и стала рассматривать технику как цель в себе (образец подобного отношения — машинист — наставник из ‘Чевенгура’, сказавший ‘человек — грубая тварь, а машина — страшно нежное изделие’, но потом убитый машиной), для большей части рабочих техника стала всего лишь неизбывным проклятием. Есть анонимная песня народной культуры СССР ‘Индустриальное танго’ и нужно быть полным идиотом, чтобы не заметить в ней издевки над индустриализмом:
Познакомились мы у станка
Взгляд твой сразу меня озадачил
Ты стояла, вращая слегка,
Рукоятку продольной подачи
Я заметил: твои черты
Неизменно полны благородства
И тогда улыбнулася ты
Без отрыва от производства
Как с тобою гулять мы пойдет
Ты расскажешь мне голосом звонким
О моторе на левом ходу
О подшипниках и шестеренках
И не ветра не будет ни туч
Только ты и луна в целом мире…
Хочешь, я подарю тебе ключ
Девятнадцать на двадцать четыре?
Как можно догадаться, героиня нашего рассказа не принадлежит к классу рабочих по рождению. Она — деклассированная интеллигентка, которая пошла на завод, надеясь увидеть там рабочих начала 20 го века, а вместо этого увидела рабочих начала века 21 го. Это многое в ней объясняет. С одной стороны она сама относится к промежуточному типу человека, стоящего между двумя мирами — миром научного и гуманитарного, словом, чисто интеллектуального труда и миром фабрики. Это и дает ей цельность, возможность правильно видеть ситуацию. С другой стороны некогда она любила говорить, что ‘людей лучше, чище, честнее и добрее, чем рабочие, она в жизни не видела’. Но постепенно ей пришлось убедиться в том, что реальные остатки коллективистских отношений в рабочей среде существуют лишь на уровне микрогрупп, дружеских компаний по несколько человек, и что в целом рабочие так же изуродованы капиталистической цивилизацией, как и другие ее подданные. Столкновение иллюзорных марксистских представлений с реальной жизнью современных пролетариев стало для нее шоком. Крах иллюзий и теорий, унаследованных от марксизма, и не выдержавших сопоставления с современным реальным пролетариатом, и привел ее к волевому параличу (к чему вполне могли добавиться и другие причины). Она могла бы заняться переосмыслением марксистских догм и иллюзий, но при всех своих достоинствах не была склонна к самостоятельной теоретической работе. Поэтому она просто ушла в частную жизнь, нелегкую жизнь одинокой работницы, живущей на 1200 и ведущей свою затяжную и бесперспективную войну с начальством.
По поведению нашей героини, по ее отношению к другим рабочим и нежеланию бороться за них, чувствуется решительный сдвиг, произошедший в российском рабочем классе за последние 100 лет. Это — сдвиг от коллективистской к индивидуалистической ориентации поведения. Ремесленники Белостока или рабочие Екатеринослава в 1905г. не отделяли себя от всего своего класса, не говорили товарищам по классу ‘мерзнете — и мерзните, пока вам достаточно по башке не надают’. Они считали себя частью своего класса, его активом. Авангард — это не генеральный штаб, который сидит в тылу и отдает приказы по армии. Авангард — это часть армии, которая первой вступает в бой и своей гибелью, своей жертвой прокладывает победный путь всей армии. Мысль и действие у них еще не были отделены друг от друга, и за решением следовало дело. Сейчас, судя по словам нашей героини, цепь, ведущая от мысли к действию, перерублена. Рабочие могут думать все, что угодно, но на их действия в реальном мире этого никак не влияет.
Впрочем, а права ли она? Неужели у современных рабочих действительно мысль с действием в разладе до такой степени, что даже если бы все они умом признали правильность безвластного коммунизма, то все равно продолжали бы жить под игом капитала?
То, что думают современные рабочие — это впитываемые ими со всех сторон буржуазные идеи плюс их собственные классовые темные инстинкты. На темных инстинктах далеко не уедешь. Чтобы была воля, нужны знания, хотя и знания не получишь без соответствующей воли.
Старая пролетарская культура исчезла. А без собственной культуры угнетенный класс — это объект для эксплуатации, а не борец с эксплуатацией. Он может чувствовать, что ему плохо, но не знает причин, по которым ему плохо, не знает, как изменить свое мучительное положение, и потому глушит свое недовольство в водке и бессмысленных драках.
Пролетарская культура, пролетарская мораль не создаются сами собой, автоматическим ходом капиталистического производства. Их создают люди — борцы, герои, мученики, теоретики, поэты пролетариата. Вот что пишет М. Магид о том, как в Аргентине начала 20 века анархистская организация ФОРА создавала в среде рабочих — иммигрантов пролетарскую культуру: ‘Вступление индивида в группу борцов, то есть в ФОРА, устраняло его изоляцию и предлагало альтернативу той тяжелейшей ситуации, в которой оказались иммигранты. Он больше не одинок, он вместе с другими, такими же, как он. Речь шла о ценности отождествления себя с группой «проклятых», о гордости за принадлежность к оставшимся за бортом. Кроме того, здесь переворачивались буржуазные представления о том, что разбогатевшие в конкурентной борьбе представляют собой элиту. Напротив, богатые — настоящие выродки, отбросы общества, богатые — это те, кто готов загрызть ближнего ради собственного блага. Бедность — свидетельство честности, доброты, элементарной порядочности. Просто капитализм устроен так, что богатеют самые подлые, а гибнут или обрекаются на нищету самые честные. Поэтому нужно уничтожить этот омерзительный общественный строй!… Угнетенный пролетариат должен вновь обрести моральное достоинство, которое придаст смысл его существованию. Он должен обрести сознание, которое позволит ему противостоять буржуазному варварству. Переворачивая диалектику капитализма, анархизм здесь становится цивилизаторским, а олигархия — варварской)’.
Если говорить о серьезной революционной борьбе, а не об игре в революцию, революционеры должны сделать все, чтобы восстановить те элементы рабочей культуры, которые еще можно восстановить в современном буржуазном обществе. Рабочие не знают из теории, что существующий мир можно изменить, они не верят из практики, что этому миру можно противостоять. Наша пропаганда и агитация должна давать знания о возможности изменения мира, наши действия — убеждать, что с этим проклятым миром можно бороться.
Мы — часть пролетариата. Пока мы боремся, борется пролетариат, своей борьбой мы, революционные пролетарии физического и умственного труда, инициируем борьбу всего нашего класса — такова наша альтернатива ленинистскому и спонтанеистскому подходам.
А героиня нашего рассказа, ссылаясь на пассивность рабочих, оправдывает ею собственную пассивность. Сама она — кто, не рабочая? Так нечего на других валить. Если не я, то кто? Каждый человек несет ответственность за судьбу всего мира. Кто капитулировал, с ним вместе капитулировал весь его класс, кто восстал, с ним восстал весь его класс — если не сегодня восстал, то завтра или через 50 лет. Редко какому поколению достается жестокое счастье делать революцию. На долю большинства поколений выпадает скучный труд ее готовить, это не романтично, но совершенно необходимо.
Рассказ нашей героини о положении на заводе чрезвычайно интересен. Он — и о жутких условиях труда, когда рабочие принуждены оставаться в цехах, где 10 градусов мороза, он и о разделении рабочих посредством премиальной системы, он и о системе неформальных связей между начальниками и рабочими, связей, еще больше укрепляющих зависимость рабочих от администрации, он и об экономической стагнации, в опровержение официозных восторгов по поводу ‘бурного экономического роста’. Он и о пассивном безволии пролетариев, покорно сносящих все это. Чего-то все же не хватает…
Не хватает стихийного, непродуманного, случайного и одиночного сопротивления рабочих капиталистической эксплуатации, сопротивления, которое неизбежно, пока существует эксплуатация, и о случаях которого мы знаем по образцу других предприятий. На некоем московском предприятии начальство за многие миллионы долларов купило ультрасовременную японскую машину, призванную контролировать труд рабочих — чтобы каждую деталь рабочий изготавливал точно в срок, ни на секунду раньше, ни на секунду позже. Жизнь рабочих была превращена в настоящий ад. Один из них понял, что делать, и, выждав подходящий момент, залил в машину воду. Машина перегорела. Тратить новые миллионы долларов на покупку другой машины начальство не стало. Акт саботажа, совершенного в нужный момент в нужном месте, дал результат. И один в поле воин, если действует с умом и знает, куда бить врага.
Мы не верим, чтобы подобных актов незаметного саботажа, волынки, увиливания от работы не было и на других заводах. Тенденция капитализма состоит в том, чтобы превратить рабочих в бездумных роботов, но люди, к счастью, не роботы, и сопротивляются этой тенденции, не дают ей дойти до конца. А пределом этой капиталистической тенденции стала бы смерть человечества, замещенного роботами, хотя бы чисто биологически эти последние и оставались людьми.
Разумеется, от волынки до социальной революции — дистанция огромного размера. Однако наша задача, задача сознательных революционеров, состоит в том, чтобы давать всем стихийным актам пролетарской борьбы революционную перспективу, перспективу всеохватывающего освобождения.
И без революционных интеллигентов тут никак не обойтись. Именно у них есть знания, необходимые рабочим, и именно у них, у тех, у кого ‘одной лишь думы власть, одна, но пламенная страсть’ есть воля, которая может пробудить волю широких слоев пролетариата. Задача революционной интеллигенции (точнее говоря, революционеров из числа пролетариев умственного пролетариата) — не командовать пролетариатом, а своей борьбой инициировать его борьбу, малый мотор революционной интеллигенции приведет в движение великий мотор массовой борьбы.
…2 апреля 1879г. состоялись, совершенно независимо друг от друга, 2 события, сыгравшие немалую роль в истории русской революции. В Петербурге народник А.К. Соловьев стрелял в царя, а в Ростове-на-Дону рабочие, измученные полицейскими мордобитиями, поднялись на стихийное восстание, разнесли по бревнышкам полицейские участки и на целые сутки оказались хозяевами города. Революция в России стала возможной лишь после того, как эти два потока — поток сознательной борьбы революционеров и поток стихийного массового протеста слились воедино. Вот что пишет о соотношении революционного знания и революционного действия современный теоретик анархизма М.Магид: ‘…Пекарь из Буэнос-Айреса Эмилио Лопес Аранго (? — 1926), не был профессиональным революционером, жирующим на партийные взносы. Тем не менее, он вошел в историю, как один из самых глубоких теоретиков и практиков анархистского коммунизма. Лопес Аранго был членом наиболее радикальной анархистской рабочей организации в истории — ФОРА- чья численность порой приближалась к 200.000. человек. Он совершенно отрицал разделение между общественной теорией (идеологией) и повседневным сопротивлением трудящися наездам предпринимателей — будь то невыплата заработной платы, сверхурочных и т.д. Один и то же человек проживает на определенной территории, заботиться о семье, читает книги, мыслит, бастует — как можно все это разделить? Теория мертва вне практике, так как она теряет всякую связь с реальностью и превращается в чистую спекуляцию. Социальная практика без теории сводится лишь к борьбе за кусок хлеба и… быстро деградирует — таких работников легко подкупить, запугать, обмануть. Экономическая борьба необходима там и тогда, когда и если в ее ходе «разрушается уважение к закону и принципу авторитета». Такая борьба игнорирует законы государства, ведется через общие собрания трудящихся (а не под руководством закрытых от постороннего глаза центральных партийных или профсоюзных комитетов). Лишь она способна раскрепостить работников, стать школой коммунизма — настоящего, самоуправляемого, анархистского. Но как же все-таки быть с тем, что люди по-разному развиты? Кто-то обладает ценными знаниями, а кто-то имеет весьма примитивные представления о мире. Одни активны и полны энергии, другие пассивны… Почему это так? Данное различие связано с одной стороны с особенностями индивидуальной судьбы и темпераментом, а с другой со все тем же разделением труда, разделением общества на управляемых и управляющих. Одни люди, ощущая неудовольствие и неудобство в связи с существующими в обществе отношениями эксплуатации и господства, задумываются о том, каким могло бы быть иное, справедливое общество. Другие озабочены тем, как оказать сопротивление в повседневной жизни, отреагировать на очередную хамскую или грабительскую выходку начальства. Правильное органичное развитие революционного движения возможно лишь в случае соединения, взаимодействия и синтеза этих тенденций, теории и практики, знания и действия, а не господства кого-то над кем-то’.
Пролетарии умственного труда и пролетарии труда физического нужны друг другу. А вражда между ними служит исключительно на пользу их хозяевам, эту вражду раздувающим, только став равными товарищами, наука и труд, пролетарии вне заводов и пролетарии внутри заводов раздавят старый проклятый мир.
Как показывает опыт последних 15 лет, современная пролетарская борьба чрезвычайно сильно отличается от форм пролетарской борьбы марксистского столетия. Она не проходит плавную эволюцию от ступени к ступени, а внезапно вспыхивает и внезапно затихает — до следующего раза, который иногда ждать очень долго. Ее центр — вне заводов, на улицах. Она не контролируется (или плохо контролируется) буржуазными партиями и профсоюзами. Ее методы — прямое действие (выход на улицы, перекрытие дорог и зданий и т.п.). Промышленные рабочие участвуют в ней, но не как авангард класса с четко обозначенными собственными требованиями, а как часть класса, вместе и наряду со всеми остальными слоями пролетариата — от трудовой интеллигенции и разоренной мелкой буржуазии до маргиналов.
Подходить к современной пролетарской борьбе с марксистскими или синдикалистскими формулами, унаследованными из прошлой эпохи (как это делала наша героиня) — значит обречь себя на неудачу и облом. Новому времени — новые песни. Проблема современных пролетарских выступлений состоит в отсутствии у поднимающихся на борьбу под давлением нужду и унижения атомизированных пролетариев собственных традиций и представления о другом мире. Из своего опыта пролетарии знают, против чего нужно бороться, но они не знают и не верят, что есть что-то лучшее, за что стоит бороться. Задача революционеров — создавать ядра, которые будут восстанавливать пролетарскую культуру, как это делала в свое время аргентинская ФОРА. (Поясним: пролетарская культура — это не только и не столько искусство, сколько представления о добре и зле, о справедливом и несправедливом, о существующем и возможном. Представления, вошедшие в практику поведения.) А, в момент революционных кризисов эти революционные группы своим словом и своим делом, своим примером (но не своими приказами) будут указывать пролетариям на альтернативу существующим порядкам.
Революционные кризисы длятся не долго. Если пролетарии не могут предложить и осуществить свой путь выхода из кризиса, то свой путь им навяжет буржуазия. Но этот навязанный буржуазией путь приведет к еще большим страданиям и лишениям пролетариев. Предложить пролетариям пролетарский выход из кризиса — задача пролетарского авангарда — сознательных революционеров:
Только точка еще не поставлена,
Только фраза еще не досказана,
Предстоит еще нам, пролетариям
Правоту свою в битвах доказывать…
И тогда наконец историю
Мы в своем повернем направлении.
Не останется тех, которые
Будут нам отдавать повеления.
Что будет к тому моменту с нашей героиней — мы не беремся судить. Засосет ли ее совсем болото современной рабочей обывательщины? Останется ли она в памяти тех, кто ее знал, как пропащая сила, как человек, который мог сделать очень много, стать великим художником, великим музыкантом, великим революционером, а волею классового общества был обречен производить прибыль для ‘серьезных жиров’ и умер от антисанитарных условий труда и жизни? Или тлеющие в ее душе искры вспыхнут новым пожаром и ее ждет тернистый, но славный путь Марии Спиридоновой — кто знает? В конце концов, решать будет она сама, решать в том числе в зависимости от окружающих ее объективных условий. Жаль только будет, если революция произойдет, когда ей станет 70 лет, и она убедится, что основная часть жизни была прожита впустую, что присущие ей огромные силы и способности так и не были реализованы.
А мы, знающие ‘одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть’, пойдем своим путем — путем на Голгофу, не нуждаясь в похвалах и не надеясь на понимание. Мы делали то, что считали должным делать, мы не поворачивались спиной к страданиям человечества, мы не могли жить спокойно, когда ‘страданьем залит мир безбрежный’, совесть наша спокойна, а большего нам и не надо, на большее мы и не надеялись. Чтобы кто-нибудь смог, когда придет пора, делать революцию, должны быть те, кто ее готовит.
Инсаров Марлен