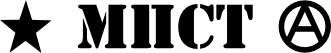Коллектив КРАС(МПСТ)
РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛИЗМ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Кризис российской экономики, главным образом, вызван структурными проблемами российской (советской) промышленности и ее неспособностью адаптироваться к условиям мирового рынка. Ничего удивительного в этом факте нет, если мы вспомним, с какими целями создавалась в нашей стране промышленность, какую роль в экономике СССР играл военно-промышленный комплекс (ВПК).
Система так называемого “реального социализма” не имела ничего общего с действительно социалистической экономикой, при которой производство ориентировано на непосредственное удовлетворение потребностей людей. Это была особая, недоразвитая форма товарного производства, а так называемый советский режим представлял собой разновидность форсированной индустриально-капиталистической модернизации. “В условиях относительно высокоразвитой стадии системы товарного производства на Западе и далеко зашедшей конкурентной борьбы на мировом рынке любая новая попытка модернизации в еще неразвитых регионах мира должна была приобрести характер особо жестокого догоняющего развития, при котором этатизм, свойственный для раннего этапа нового времени, не только повторялся, но и выступал в более чистом, последовательном и строгом виде, чем в давно ушедших в прошлое западных оригиналах… Особая насильственность советской буржуазной модернизации объясняется тем, что в ней за чудовищно спрессованный промежуток времени вместилась эпоха протяженностью в 200 лет: меркантилизм и французская революция, процесс индустриализации и империалистическая военная экономика, слитые воедино” (Роберт Курц. Коллапс модернизации. Франкфурт-на-Майне, 1991). Большевики — ленинцы-сталинцы — форсированным темпом создали в отгороженной от Запада “железным занавесом” России основы индустриально-капиталистической системы. Исторически они совершили то, чего не смогли сделать борец с крестьянской общиной Столыпин и слабый российский капитал, использовав механизмы, унаследованные от “военного социализма” кайзеровской Германии времен Первой мировой войны.
Именно создание мощного ВПК было основной целью сталинской индустриализации. Именно в нем концентрировались лучшие, наиболее профессиональные кадры рабочих и специалистов. Кроме того, на оборонку работала колоссальная часть “мирной” промышленности: одни добывали руду, другие плавили сталь, третьи делали из этой стали танки, а танки стояли где-нибудь в Восточной Европе. Но поскольку безграничная завоевательная политика, имеющая целью ограбление чужих территорий, в ядерную эпоху стала невозможной, ВПК работал в значительной вхолостую, работая исключительно “на себя”, транжиря ресурсы страны и не давая ей взамен ничего ценного. Даже на уровне внедрения в гражданском секторе новейших технологических разработок, сделанных в рамках ВПК, существовали гигантские препятствия из-за доходящего порой до абсурда режима секретности. Существование советской экономики, тратившей сумасшедшие средства на ВПК, во многом обеспечивалось в 60-е — 80-е годы доходами от экспорта нефти и газа, а также некоторых других видов сырья. Именно за счет экспортно-импортных операций и удавалось поддерживать более-менее сносный уровень жизни значительной части населения СССР. Ведь общинное сельское хозяйство было практически полностью разрушено на предыдущем этапе индустриально-капиталистической фордистской модернизации в 30-е — 60-е годы, который вызвал массовое бегство в города крестьян, спасавшихся от колхозно-совхозной сверхэксплуатации (точные цифры назвать сложно, по приблизительным оценкам речь может идти о более чем 50 миллионах человек). Советская легкая промышленность, громоздкая, негибкая, слабо ориентированная на непосредственные нужды потребителей, оснащенная устаревшим оборудованием, не была в состоянии удовлетворить спрос населения на товары широкого потребления.
В условиях жесткого сталинского режима, когда какие-либо явные формы сопротивления отсутствовали, режим мог закрывать глаза на последнее обстоятельство. Однако, ситуация начала меняться со смертью Сталина и началом хрущевской “оттепели”. Чудовищное перенапряжение советской экономики и игнорирование действительных нужд людей не могло пройти даром. В ситуации, когда контроль над обществом стал менее жестким, появилась потенциальная возможность для более явного выражения недовольства. Хотя открытые выступления эксплуатируемых трудящихся (восстания в концлагерях, стачка рабочих Новочеркасска в 1962 г. и другие) по-прежнему подавлялись со зверской жестокостью, власти уже не могли просто “не замечать” народного недовольства. К тому же, стало расти “уклонение от труда”, рабочие систематически снижали темпы работы, “отлынивали”, “прогуливали”. В этих условиях режиму пришлось пойти в 60-е — 70-е гг. на значительные социальные уступки трудящимся (повышение зарплаты и пенсий, продление отпусков, введение второго выходного дня и т.д.). В результате сложилась своего рода молчаливая сделка между правящим классом и рабочим классом — “вы делаете вид, что работаете, мы делаем вид, что платим”. Так образовался советский вариант социального государства. Вследствие освобождением из концлагерей и восстановления в правах (реабилитации) многих миллионов советских граждан, все они начали предъявлять такой же спрос на товары широкого потребления, как и остальные. Это не могло не привести к дальнейшему росту экономических диспропорций и дефицитов.
Огромные военные расходы и возросшие издержки на рабочую силу ограничивали общие доходы и возможности правящей квазикапиталистической бюрократии. Начали сказываться противоречия между различными ее группировками, делившими власть и ресурсы. Режим, отказавшийся от массового террора, как от метода подавления любой угрозы своей монолитности, вынужден был искать обходные пути. Так постепенно сложилась система разделения ролей и сфер влияния между различными группировками по линиям центр — регионы, между различными отраслевыми структурами, а также ведомствами, основанная на сложной системе экономической кооперации, клиентальных связей и властных сдержек и противовесов.
Основной экономической базой для улаживания межрегиональных и межотраслевых противоречий, а также для ведения социальной политики стал экспорт нефти и газа. Подъем цен на нефть в начале 70-х гг. стабилизировал на время советский режим, но, в свою очередь, падение цен на нефть в 80-е гг. (произошедшие не без влияния стратегической политики США, направленной на поощрение разработок новых нефтяных месторождений с тем, чтобы уменьшить доходы от советского экспорта) способствовало краху советской экономики.
Ухудшение социально-экономической ситуации в СССР привело к обострению социальных противоречий и к разрушению внутреннего молчаливого консенсуса в советском обществе вследствие разложения сложившихся на протяжении десятилетий клиентальных связей в многоуровневой бюрократии. Обострились противоречия и возникли разломы по различным линиям. Прежде всего, между региональными (республиканскими) бюрократическими элитами и институтами центральной бюрократии, причем первые в целях идейно-политического обеспечения своих властных притязаний во все большей степени начали апеллировать к идеям национализма. Номенклатура бывшего “Союза” очень быстро обнаружила, что для задуманного ею раздела и передела собственности и власти, для того, чтобы заставить трудящихся “больше работать” и на меньшее претендовать, прежняя “красная” идеология не годится. Перекрасившиеся властители постарались откреститься от своих предшественников и конкурентов, а заодно и выбросили вон всякие социальные мотивы. Республиканские и областные партбоссы стремились стать полновластными хозяевами на управляемых ими территориях. Наилучшая возможность для этого возникала с образованием новых, контролируемых ими государств, а для оправдания этих актов служила национальная идея. Конкурентом бюрократии в борьбе за власть выступила во многих республиках местная интеллигентская верхушка. Она привыкла считать себя “солью земли”, “глашатаем и хранителем национальной культуры” — теперь она объявила себя альтернативной элитой и претендовала на свою долю пирога. В России она первое время провозгласила идеологию западного либерализма, но ее флер скоро потускнел. В других республиках СССР интеллигентские клики учредили разнообразные “народные” фронты и потребовали “национальной независимости”, то есть собственной власти. Уступив в итоге своим более опытным и хитрым номенклатурным соперникам, эти патриотические писатели, художники и ученые сомкнулись с ними на почве национализма.
Усилились противоречия между различными производственно-отраслевыми группами советской бюрократии, прежде всего, нефтегазовым комплексом, приносившим государству основной доход в виде иностранной валюты и фактически обеспечивающим социально-экономическую и социально-политическую стабильность государственно-капиталистического советского режима, и военно-промышленным комплексом, бывшем доминирующей частью советской обрабатывающей промышленности. Первый был, несомненно, заинтересован в том, чтобы скинуть со своих плеч балласт в виде предприятий обрабатывающей промышленности (расплачивающихся за нефтепродукты отнюдь не по ценам мирового рынка) и социального государства путем радикального изменения политического курса. Второй настаивал на необходимости в целом сохранить сложившуюся экономическую и политическую систему, хотя и осознавал необходимость ее существенной модернизации
Под угрозой оказалось и неписаное “соглашение” между контролирующей производство бюрократией и рабочим классом, так как уменьшились возможности для осуществления советским государством широкой социальной политики и поддержания стабильного уровня жизни за счет импорта иностранных продуктов и товаров широкого потребления. В добавок ко всему этому, обнаружилось прогрессирующее технологическое отставание от развитых стран мира, в том числе и в военной области, что вело к ослаблению политической мощи СССР на международном уровне. Но попытки советского руководства осуществить структурный переворот в промышленном производстве путем форсированного внедрения капиталоемких дорогостоящих технологий на первом этапе “перестройки” в ходе так называемого “ускорения” провалились, отчасти из-за недостатка средств, обеспечивающих внедрение этих технологий, отчасти из-за громоздкости и неповоротливости советской “плановой” экономики с ее бюрократическими монстрами в лице министерств и гигантских промышленных объединений, а также вследствие тихого саботажа со стороны широких слоев рабочего класса.
Подобное напряжение усилий оказало пагубное влияние на архаическую экономику советского государственного капитализма. К сожалению, активность рабочего класса, проявившаяся во время мощных шахтерских забастовок 1989-1990 гг. и в различных социальных движениях типа локальных гражданских инициатив и комитетов самоуправления в микрорайонах, оказалась несамостоятельной из-за отсутствия у трудящихся опыта самоорганизации. Она была использована (канализирована) различными бюрократическим элитами в целях осуществления властных притязаний через всевозможные “Демократические России” и “народные” фронты.
Усилившиеся противоречия заставили советское руководство во все большей степени рассчитывать на кредиты международных монетарных центров, что, естественно, способствовало росту как политической, так и экономической зависимости СССР от этих организаций. В конце концов, властные притязания отраслевых и территориальных бюрократических элит разорвали на части советское государство и подстегнули быстрые и радикальные экономические преобразования в неолиберальном духе, чему в немалой степени способствовали международные банки-кредиторы, поставившие в качестве одной из своих целей взламывание экономического протекционизма, очерченного границами СССР, и интеграцию советской экономики в мировой рынок.
Нет ничего удивительного в том, что и в условиях рыночной системы, пришедшей на смену командно-административной, большая часть военных заводов оказалась нерентабельной: их продукция не в состоянии найти “мирный спрос”, а у российского государства нет в нынешней политической и экономической реальности ни средств, ни потребности производить оружие в прежнем количестве. Пушки и танки нельзя намазать на хлеб. От того в тяжелейшем положении оказалась и российская промышленность, ориентированная на нужды ВПК. С другой стороны, в условиях открытости границ для потоков иностранной продукции, многие советские предприятия оказались не в состоянии выдержать конкуренцию с аналогичными западными производителями. Разумеется, в современной России немало богатых фабрик и заводов, вполне рентабельных и приносящих доходы. Но они относятся, в основном, к сфере добывающей индустрии. Что же касается обрабатывающей промышленности, то большая ее часть приказала долго жить. Результат — колоссальная и, возможно, не имеющая аналогов в мировой истории скрытая безработица, вследствие которой десятки миллионов людей практически перестали получать зарплату, во все большей степени (по мере санации убыточных предприятий) превращающаяся в открытую.
Олигархические группировки, управляющие страной, предлагают сегодня различные варианты решения проблемы безработицы и “недозанятости”, принявшей чудовищные масштабы. Первый вариант (за него, по крайней мере на словах, ратуют некоторые боссы ВПК, а также некоторые ультрапатриотические маргинальные группы) заключается в том, чтобы, грубо говоря, “сделать как раньше” — в той или иной форме восстановить империю в прежних масштабах — СССР. Нужно, говорят они, на все имеющиеся в государстве средства опять начать строить танки и прочее вооружение, и таким образом обеспечить рабочие места. Танкам же надлежит совершить “последний бросок на юг” или еще куда-нибудь. Надо признать, что такие идеи имеют сегодня определенное распространение, ибо они опираются на привычные, имперские стереотипы мышления. Но к счастью, на практике такой проект абсолютно нереален, потому что и время не то, и силы у России не те, чтоб совершать подобные броски. Ведь даже СССР, еще будучи сверхдержавой, и не мечтал ни о чем подобном: в мире где существует ядерное оружие это попросту невозможно. Так что попытка реализации такого проекта на практике, может быть, лишь гальванизирует на время труп российской промышленности, а затем приведет к очередному краху. Да и политическое восстановление СССР в прежнем виде — задача, по совершенно тривиальным причинам не осуществимая. Впрочем, весьма популярное сегодня ультраправое “Русское Национальное Единство” (РНЕ) всерьез говорит о необходимости абсолютной “автаркии” российской экономики (понимая здесь под Россией всю территорию бывшего СССР), но политические и экономические возможности для реализации такого проекта сегодня отсутствуют.
Второй вариант — за него ратуют на пропагандистском уровне все политические группы мейнстрима — заключается в том, чтобы сделать существующие предприятия эффективными и рентабельными в условиях рыночной экономики, либо создать новые. Теоретически такая возможность, наверное, существует. Но все экономисты признают, что это потребует колоссальных капиталовложений. Ведь нужно будет закупать новое дорогостоящее оборудование и модернизировать старое, осуществить дорогой, долгий и трудоемкий процесс конверсии оборонки, найти новые рынки сбыта, выработать новую маркетинговую стратегию. И притом, никто не сможет гарантировать успех такого предприятия, дело это, с точки зрения коммерческой, чрезвычайно рискованное. Но откуда взять на это средства, кто станет вкладывать капиталы в умирающие предприятия, где имеется лишь устаревшее, уже много лет не ремонтировавшееся оборудование? Государство? Ему такая задача явно не по силам, у него для этого нет ни средств, ни возможностей. Будь оно даже достаточно компетентно для решения данной проблемы (а оно — это всем известно — некомпетентно и предельно коррумпировано), оно все равно обременено внешним долгом в 150 млрд. долларов и никакие дорогостоящие инвестиции позволить себе не может. Российский капитал? Зачем ему это, ведь куда как выгоднее и безопаснее зарабатывать деньги на финансовых спекуляциях и торговле. Да и что понимают в промышленности господа Потанины и Березовские?
Эти господа заработали свои миллиардные состояния исключительно за счет разворовывания бюджетных средств (в чем, собственно, в отличие от западных аналогов, и состоит основная функция российских банков, именно это, а не предоставление кредитов или работа с депозитными вкладами, является основным источником их доходов), а также за счет финансовых махинаций и сомнительных торговых сделок. Промышленность для них — темный лес. С другой стороны, директорский корпус промышленных предприятий, сформировавшийся еще в советское время, не имея ни малейших представлений о том, как следует работать в условиях рыночной экономики, ищет любые возможности для максимально быстрого индивидуального обогащения. Поэтому средства, поступающие на счета предприятий, будь то государственные или частные инвестиции, ими просто-напросто разворовываются, оборудование распродается, а деньги переводятся за границу, либо вкладываются в финансовые спекуляции. Примеры обратного являются скорее исключением из общего правила.
А экспорт оружия? Некоторые виды российского оружия не уступают западным образцам. Но, вне зависимости от качества, большинство рынков оружия будет для России закрыто. Торговля оружием теснейшим образом переплетается с политикой, с влиянием сверхдержав в каждом конкретном регионе. Нынешняя Россия мировой сверхдержавой не является. Сегодня она экспортирует оружие на несколько млрд. долларов ежегодно, и при всем желании не сможет существенно увеличить эту цифру.
Иностранный капитал? Но ему требуется, прежде всего, полная общественная и политическая стабильность, а в стране раздираемой острейшим кризисом, в стране, где большинство населения живет в нищете, такой стабильности нет. Конечно, уровень развития рабочего движения абсолютно не соответствует масштабам кризиса. Но все же, в катастрофических социально-экономических условиях существует угроза волнений и даже бунтов. Кроме того, дальнейший процесс развала российского государства имеет свою собственную логику, и уже появились признаки того, что этот процесс принял необратимый характер. Сейчас уже ни для кого не является новостью наличие в российских регионах собственных денежных знаков или их заменителей, ограничения на вывоз из этих регионов продуктов питания, собственная автономная политика регулирования цен, растущая политическая самостоятельность. В таких условиях центральное правительство, конечно, может попытаться террористическими мерами навести относительный “порядок” и, создав благоприятные условия для ввоза западного капитала (налоговые льготы и др.), обеспечить его участие в уже существующих проектах, равно как и в создании новых. Однако из-за развала (вследствие тотальной коррупции) централизованного аппарата финансирования государственных служб (в том числе и репрессивных служб, например, аппарата снабжения армии) контроль над ними со стороны центрального правительства в значительной степени утрачен и постепенно переходит в руки региональных царьков. Россия все больше становится похожа на лоскутное одеяло — уровень жизни и условия труда резко разнятся в зависимости от региона. И если одним регионам есть на что рассчитывать, поскольку они обладают большим количеством природных ресурсов, либо благоприятным политико-географическим положением и могут рассчитывать на западные инвестиции, то другие практически лишены перспективы на будущее.
Глобализирующийся капитализм — это мировая система, основанная на постоянном расширении. Он уже включил в свою сферу новые гигантские пространства после распада государственно-капиталистических систем на Востоке и аграрно-капиталистических преобразований в странах “Третьего мира”. На этом основаны надежды на то, что “когда-нибудь”, “как-нибудь” и в “какой-либо мере” международный капитал придет и в ныне оставленные и заброшенные сферы, сегодня не представляющие для него интереса. Но весь вопрос именно в этих “когда”, “как” и в “какой мере”. Капитал будет вкладываться в эти зоны лишь в том случае, если экономические издержки и социальные факторы риска удастся свести к минимуму, если рабочая сила дешева, но ситуация стабильна. Но может ли быть действительно стабильным регион, где подавляющее большинство населения вообще не обладает платежеспособным спросом? Во всяком случае, для интеграции таких регионов потребуется диктаторская жесткая власть и вымирание миллионов людей, не имеющих возможности “вписаться в рынок”.
Вот почему в ближайшем будущем можно рассчитывать на все большее углубление региональных различий в России и других республиках СНГ. Складывается несколько типов “развития”. Во-первых, это минимальное число зон, в большей или меньшей степени интегрированных в мировой рынок: как мировые центры, услуг и финансовых спекуляций (к примеру, Москва), сырьевые придатки (нефтегазовые регионы) или “свободные экономические зоны”, работающие на экспорт. Во-вторых, это регионы, сравнительно близкие к интернациональным экономическим центрам (согласно логике “джаст-ин-тайм”, обладающие сравнительно дешевой рабочей силой и имеющие шанс на то, что там будут созданы новые производственные придатки метрополий для нужд мирового рынка). Эти зоны займут свое место в международном капиталистическом разделении труда как различные “пороговые”, полупериферийные или периферийные формы (потенциально — Калининград и Дальний Восток). И, наконец, многие территории будут, по-видимому, надолго оставаться без притока капиталовложений и обречены на полное разрушение всей экономической структуры, которая до сих пор базировалась на советском сельском хозяйстве или устаревшей обрабатывающей промышленности (пример: зона “красного пояса” в России, Нечерноземье, Север Европейской части России и т.д.)
Кроме того сложно рассчитывать на крупные иностранные инвестиции сегодня, в условиях мирового финансового кризиса. После кризисов в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке наблюдается паническое бегство капиталов из многих “пороговых” стран. Так что, даже и по самым оптимистическим экономическим прогнозам миллионы людей в обозримом будущем будут голодать.
Настоящее решение экономических и политических проблем, стоящих сегодня перед трудящимися, под силу осуществить только им самим. В конце концов, мы живем на огромных территориях, полных неисчислимых природных богатств. Проблема в том, что богатства эти присвоила себе эксплуататорская верхушка из бывших партчиновников и криминальных “авторитетов”, стыдливо прикрывшаяся, как фиговым листком, “национальными интересами” и “священным правом частной собственности”. Но проблема и в нас самих. Пока мы надеемся на то, что кто-то решит наши проблемы вместо нас, ничего не изменится.
***
К несчастью, уровень реального сопротивления на сегодняшний день далеко отстает от требований времени и ситуации. Причины этого следует искать в разрушении социальных связей в постсоветском обществе, разрушении, которое зашло очень далеко. Люди крайне пассивны и, подобно изолированным атомам, предпочитают часто “спасаться в одиночку”, пытаясь решить свои проблемы отдельно от других или даже за их счет. Их способность и желание действовать коллективно и солидарно отстаивать свои интересы сократились до крайности.
На трудящихся СССР и СНГ как бы обрушились исторически две волны “атомизации”, которые последовательно уничтожили общинные связи и структуры мышления крестьян и квалифицированных “рабочих-ремесленников” начала века — тех социальных сил, которые в эпоху революции создавали рабочие и крестьянские Советы и фабзавкомы. Первая волна была связана с осуществленной большевистским режимом индустриально-капиталистической модернизацией (индустриализация и коллективизация). В результате подверглась разрушению общинная система деревни, как на экономическом так и на культурно-психологическом уровне. Общинные структуры взаимопомощи, мышления и языка, основанные на идеалах равенства и солидарности, оказались утрачены. В то же время, в городе сформировался тип фордистского “массового рабочего”. Фордистско-тейлористские структуры наложили сильнейший отпечаток на социальную психологию и поведение большинства трудящихся. Прежде всего, резко сузился горизонт трудовой жизни. Привычка в течение всей жизни закручивать одни и те же гайки и знать только свою узкую исполнительскую сферу разительно отличала “фордистского рабочего” от квалифицированных “рабочих-ремесленников” начала века: теперь работник плохо представлял себе задачи и нужды производства в целом и соответственно не испытывал такого стремления к установлению собственного контроля над процессом производства. Функции управления производством в целом как бы естественно должны были принадлежать компетентным управленцам, откуда развивалось (и к тому же усиленно насаждалось сверху) представление о единстве интересов между рабочими и директором (это явление получило название “патернализма” или “корпоративизма”). Остатки этого мышления, типичного для советского варианта “фордистского рабочего”, можно очень часто встретить до сих пор, несмотря на то, что сегодня директора строят себе особняки, а работники месяцами не получают зарплату.
Кроме того, десятилетия жесткого централизованного государственного индустриализма не прошли и не могли пройти даром. Люди, помещенные государством и индустриальной системой в огромные города-соты, подчиненные жестким приказам, отчужденные друг от друга, непрерывно конкурирующие друг с другом за обладание дефицитными материальными ценностями, эти люди сегодня не в состоянии договорится друг с другом даже о самых элементарных вещах, а не то что о социальной революции. Наконец, попытки открытого рабочего сопротивления в СССР (забастовки, собрания и т.д.) обычно приводили к тому, что активисты исчезали в концлагерях и психушках, поэтому не происходило накопления опыта коллективных социальных действий даже на уровне небольших групп сопротивляющихся рабочих — их слишком быстро рассеивали.
В результате всех этих процессов были почти утеряны навыки сопротивления, самоорганизации, взаимопомощи, социального творчества, с другой стороны, в мышлении и в языке (равно как и в политике и в экономике) закрепились жесткие авторитарные структуры. И рабочий класс здесь не является исключением.
Такие настроения сильно подорвали готовность и способность трудящегося класса СССР найти самоуправленческую альтернативу режиму КПСС в конце 80-х гг. Люди оказались вполне в состоянии активно бороться с попытками правительства Горбачева выйти из кризиса развития за их счет (протесты против намечавшейся ценовой реформы, стачки 1989-1990 гг.), однако так и не смогли выступить в общественной борьбе как самостоятельная социальная сила. А после отстранения КПСС от власти и поворота к неолиберализму на них обрушилась вторая волна “атомизации”. Теперь и сама жизнь в условиях рыночной экономики, и СМИ внушали им, что “коллективизм” бессилен, что коллективными действиями ничего в действительности нельзя изменить, что “спастись” можно только поодиночке (“каждый за себя”). Пропаганда и политика неолиберализма в немалой степени способствовали распространению эгоизма, националистических, профашистских (анисемитских, антикавказских и других) настроений среди трудящихся. Все это можно считать не только типичной попыткой найти “козла отпущения” и свалить на него вину за социальную катастрофу, но и проявлением отсутствия солидарности — стремление выйти из кризиса за счет других, иначе говоря, асоциальными и антисоциальными патологическими формами активности.
Разумеется, нельзя полагать, будто указанные тенденции действуют как некая железная, заданная необходимость и раз и навсегда делают невозможной любую самоорганизацию работников. Как показывает опыт реального рабочего сопротивления (например, самоорганизованная и самоуправляемая борьба рабочих Ясногорского машиностроительного комбината в 1998-1999 гг.), трудящимся достаточно осознать две самые простые истины: во-первых, если ничего не делать, не бороться, то все просто погибнут, вымрут от голода, и, во-вторых, если уж что-то делать, то действовать только самим, без вождей, партий и профсоюзных бюрократов, через общие собрания и подотчетные им механизмы рабочего самоуправления (советы). Вероятно, такой выбор бывает проще сделать в том случае, когда сами рабочие имеют лучшее образование и квалификацию, в большей мере представляют себе, как и зачем работает их производство в целом. К сожалению, примеры независимых рабочих выступлений до сих пор уникальны в современной России.
***
Каким бы ни был нынешний уровень социального сознания “низов”, мы не верим в то, что какое-либо правительство в состоянии решить те задачи, которые стоят сегодня перед обществом. Только сами люди, сами трудящиеся смогут это сделать, если, конечно, захотят. Если рабочий класс окажется в состоянии стать субъектом исторического процесса и сформулировать в процессе борьбы социально-революционную альтернативу существующей реальности, только тогда у него появятся шансы на выживание. Но в каком направлении могут быть приложены его усилия? Мы не обладаем и не можем обладать точным рецептом выхода из кризиса, так как не можем заранее предугадать совокупные творческие действия и решения в рамках социального классового движения, объединяющего миллионы людей. Но у нас есть некоторые соображения по этому поводу.
Мы убеждены в том, что в борьбе классов бессильны традиции старого рабочего движения, которое находится под полным контролем профсоюзных и политических функционеров. ФНПР, НПГ, КПРФ, РКРП и т.д. — это централизованные бюрократические структуры с широко разветвленным аппаратом профессиональных, хорошо оплачиваемых чиновников. Очевидно, что этот аппарат, в силу самого своего положения, обладает огромной властью над рабочим классом и имеет собственные политические и экономические интересы. Поэтому для всех таких организаций рабочие — лишь статисты, “пушечное мясо”, которое необходимо этим господам в борьбе за власть. Ничего не дают так называемые “акции гражданского неповиновения” — символические забастовки на пару часов и “митинги протеста” с заранее подобранными ораторами. До тех пор, пока рабочее движение катится по старой накатанной колее, выплескивая свое недовольство на дирижируемых профбюрократией митингах или символических стачках, трудящиеся не могут накопить опыт самоорганизации, они лишь повторяют роли прежнего, не ими написанного спектакля. Вновь и вновь наемные работники становятся средством, которое используется чиновниками и “вождями” в борьбе за власть.
Массовые перекрытия дорог в 1998 г. стали актом отчаяния рабочих. Однако легко видеть, что они поддерживались и использовались партийной, профсоюзной и региональной бюрократией, директорами и владельцами предприятий для выпускания пара и давления на Кремль в своих корпоративных интересах (а вовсе не в интересах рабочих). Недовольство трудящихся отвлекается от местных паразитов и направляется исключительно против нынешней центральной власти. Поэтому некоторые рабочие инициативы выступают сегодня против перекрытия дорог, считая такого рода акции лишь средством выпускания пара. Эти рабочие инициативы ратуют за те или иные формы производственного самоуправления и рабочего контроля. Мы поддерживаем такого рода идеи. Только разрушив капиталистическую систему и взяв управление заводами и инфрастуктурой в свои собственные руки, трудящиеся смогут решить большую часть своих проблем. Но подобные предложения нуждаются в серьезной доработке. Дело в том, что нигде рабочие не обладают ни достаточно эффективной организацией, ни достаточными опытом и знаниями для того, чтобы уже сегодня осуществлять производственное самоуправление.
Необходимо новое рабочее движение. Это движение призвано отличаться от старого тем, что оно будет служить не интересам политиков и профбюрократии, а напротив, станет именно движением рабочих для самих рабочих. Оно должно быть основано на принципах самоорганизации и самоуправления. Опыт самоорганизации и самоуправления невозможно приобрести иным путем, кроме как сообща борясь за свои социальные и человеческие права, помимо воли профсоюзных и политических чиновников. Такой опыт накапливается только тогда, когда трудящиеся выходят из под контроля лидеров (политиков и профчиновников) и начинают действовать самостоятельно (пусть и хаотично на первых порах). Это станет началом нового рабочего движения.
Важно с самого начала соблюдать принцип абсолютного равенства всех участников движения: нет умников и дураков; каждый должен быть выслушан; все равны при обсуждении. Никаких “авангардов” и “революционного (партийного, профсоюзного) руководства”, право принятия решений принадлежит только общим (цеховым, заводским) собраниям рабочих, либо их делегатам, которые полностью контролируются общими собраниями, действуют только в рамках инструкций, данных этими собраниями, и могут быть в любой момент отозваны по их решению. Структура нового рабочего движения должна состоять из общих собраний коллективов трудящихся и всецело контролируемых ими рабочих советов и их федераций. В ней нет места постоянно оплачиваемым чиновникам (освобожденным работникам), которые по сути являются уже не рабочими, а профессиональными управленцами (менеджерами, буржуазией), и в силу своего классового и профессионального положения не заинтересованы в развитии самоорганизации трудящихся. Эти господа заинтересованы в максимальном сосредоточении управленческих функций в своих руках, поскольку от этого зависят их зарплата и руководящее положение, а следовательно — в подавлении ассамблеарных структур и других элементов самоорганизации. Если же органы рабочих действует на общественных началах и без отрыва от производства, то они не отделяются по своему реальному положению от всех остальных работников и чисто практически в огромной степени заинтересованы в развитии базисной самоорганизации, так как это позволяет освободиться от большого объема работы.
Задача инициативных групп, базисных комитетов и ассамблеаристских революционных рабочих союзов, объединяющих в своих рядах лишь меньшинство работников своих предприятий, может состоять в организации и налаживании работы общих собраний, вовлекающих в процесс самоорганизации как можно большее число рабочих.
Для того, чтобы рабочие смогли осуществить свои заслуженные и оправданные притязания, им необходимо наладить прочную и эффективную координацию своих действий, а для этого необходимо огромное структурированное движение трудящихся, включающее в себя сельские, фабрично-заводские, городские и региональные собрания-ассамблеи, союзы и рабочие советы (как в Испании в 1936 г. или в Венгрии в 1956 г.), а также организации, способные обеспечить координацию действий на уровне отрасли, между различными отраслями, и по “технологическим цепочкам”. Нельзя забывать о том, что экономика страны является единым организмом. Рабочие лишь тогда смогут управлять производством, когда вся страна будет покрыта прочной сетью структур рабочего самоуправления, свободных от партийности и бюрократизма и действующих на основе наказов трудовых коллективов и коллективов жителей (императивного мандата). Необходимо также приобрести больше знаний о производстве. Стоит попытаться организовать курсы для рабочих по изучению того, как функционирует их производство. Подобная инициатива была недавно предложена активистами с завода “Ростельмаш”.
Советская индустриально-капиталистическая система строилась на жестком разделении труда, на жесткой специализации. Следствием этого стал раскол работников на своего рода касты, зачастую враждебно относящиеся друг к другу. Подобные отношения внутри рабочего класса, включающего в себя неруководящих работников как физического, так и умственного труда, подпитывались и пропагандой тоталитарного режима, действовавшего по известной схеме: разделяй и властвуй. Рабочим, занятым, в основном, физическим трудом, говорили, что они якобы являются правящим классом, а интеллигенция играет роль подчиненную и не заслуживает доверия, специалистам же внушали презрение к “этой темной, тупой и управляемой рабочей массе”. Очевидно, что целью социального освобождения является самоорганизация и объединение всех категорий работников с целью преодоления как капиталистической эксплуатации, так и разделения труда. Очень важно поэтому попытаться привлечь на свою сторону специалистов, не являющихся руководящими работниками, технический персонал. Именно спайка между рабочими и специалистами, основанная на равноправии и взаимном уважении, обеспечила относительный успех действий венгерских рабочих советов. При отсутствии такой спайки, говорить о производственном самоуправлении сложно, оно легко может превратиться в опасное и разрушительное предприятие. К сожалению, в настоящее время инженерно-технические работники занимают в большинстве случаев негативную позицию по отношению к независимым рабочим инициативам. Эта ситуация в принципе может быть преодолена только путем вовлечения их в рабочее движение в качестве равноправных партнеров по борьбе.
Если говорить о тех заводах, которые имеют в обозримом будущем шансы на выживание, то работники, занятые на них, могут пытаться развивать рабочее самоуправление с тем, чтобы, в конце концов, предприятия оказались в руках тех, кто на них трудится. Но беда в том, что многие российские предприятия обречены на исчезновение уже в самое ближайшее время. Даже если предположить, что в условиях полномасштабной социальной революции, охватывающей все звенья народнохозяйственного комплекса, данная проблема могла бы быть каким-то образом разрешена, то нельзя закрывать глаза на то обстоятельство, что современная Россия находится за миллион миль от такой революции. А, между тем, уже сегодня массы людей выброшены за ворота своих предприятий и лишены средств к существованию.
Миллионам людей помогают выжить их крошечные огороды и приусадебные участки. Именно это спасает сейчас страну от голода И если городская промышленность явно не в состоянии обеспечить рабочие места и приличную зарплату, не логично ли было бы попытаться захватить огромные пустующие участки земли? Земля — это в настоящее время практически неиспользуемое средство производства. В начале века она кормила свыше ста миллионов человек. Насильственная “коллективизация”, которую жесточайшими методами осуществляло ленинистское государство, убила деревню, и большинство крестьян бежало в города. Земля осталась, вот только пользоваться ею сегодня почти некому, потому что деревня практически обезлюдела. А между тем, уже есть примеры успешного заселения пустующих земель, например в Поволжье, причем, некоторые новые поселения смогли обеспечить себе довольно приличный, по российским меркам, уровень жизни. Разумеется, такого рода задачи не могут решаться в индивидуальном порядке, здесь необходим коллективизм во всем, начиная с противостояния властям (ибо государство постарается не допустить подобных захватов) и кончая совместным обустройством хозяйства. Если рабочие могут действовать коллективно, перегораживая железные дороги, то почему бы им не провести таким же образом захваты земли и пустующих домов в деревнях? По этому пути идет сейчас значительная часть рабочего класса Бразилии. Тысячи рабочих, выброшенных за ворота своих заводов, вместе с крестьянской беднотой захватывают землю, создают на ней коммуны и хозяйственные кооперативы. Данный коммунитарно-социалистический эксперимент может иметь очень большое значение, потому что он демонстрирует пути решения проблем, стоящих перед населением многих странами мира, включая и Россию.
Для того, чтобы трудящиеся могли противостоять мощи централизованного государства, они нуждаются в широкой, продуманной и разветвленной системе организаций, включающей в себя рабочие союзы и советы по месту работы, территориальные самоуправляющиеся объединения по месту жительства, собственные культурные учреждения, короче говоря, в такой организации, которая охватывает все сферы общественной жизни. Только такое, самоорганизованное общество способно вести борьбу за свои собственные интересы, а не быть послушным исполнителем воли партий, чиновников и профессиональных политиков. И здесь можно опереться на накопленный уже мировым рабочим движением исторический опыт, на идею общих собраний (ассамблей трудящихся), ассамблеаристских революционных рабочих союзов и рабочих советов.
Мы говорим здесь о масштабном социально-революционном процессе, но никоем образом не о бунтах и иных хаотических выступлениях, в ходе которых массовая активность не самостоятельна и неизбежно канализируется (направляется) политическими элитами и партиями. “Всегда когда массы свергали правительство, и новая партия захватывала власть, мы имели буржуазную революцию – замену старой правящей касты на новую. Так было в Париже в 1830 году когда финансовая буржуазия вытеснила землевладельцев, и в 1848 году когда индустриальная буржуазия захватила власть. В русской революции большевистская партийная бюрократия пришла к власти как правящая каста (и как сила, последовательно проводящая индустриально-капиталистическую модернизацию; об этом Паннекук пишет в других своих работах, — прим.ред.). В Западной Европе и Америке буржуазия гораздо лучше закрепилась на заводах и в банках, так что партийная бюрократия не может вытолкнуть ее так просто. Буржуазию можно победить только подготовленными едиными действиями трудящихся масс, в которых они захватят фабрики и заводы и создадут свои советы” — так писал один из активнейших участников движения за рабочие советы в Германии и Голландии Антон Паннекук.
“Нет большей помехи социализму, большего затруднения для революции, большего врага для системы Советов, чем партия, — писал еще в 1921 году другой видный участник немецкого движения за рабочие советы Отто Рюле. -Преодоление партии — это самая элементарная предпосылка революции, системы Советов, социализма”.
Но самоорганизация не возникает на пустом месте. Нужно, чтобы люди ясно сознавали свои права и потребности и имели позитивный идеал общественного переустройства. “Нищеты с отчаянием мало, чтобы возбудить социальную революцию, — говорил Михаил Бакунин. — Они способны произвести… местные бунты, но недостаточны, чтобы поднять целые народные массы. Для этого необходим еще и общенародный идеал, вырабатывающийся всегда исторически из глубины народного инстинкта, воспитанного, расширенного и освященного рядом знаменательных происшествий, тяжелых и горьких опытов, нужно общее представление о своем праве и глубокая, страстная, можно сказать, религиозная вера в это право. Когда такой идеал и такая вера в народе встречаются вместе с нищетою, доводящей его до отчаяния, тогда Социальная Революция неотвратима, близка, и никакая сила не может ей воспрепятствовать”.
Короче говоря, чтобы совершить социальную революцию, нужно, как говорил испанский революционер, анархо-синдикалист Буэнавентура Дуррути, надо нести в своем сердце новый мир…
Рабочее движение в России пока еще только делает первые шаги и очень далеко отстоит от осознания своих глубинных интересов и прав. Оно робко, на ощупь ищет решения своих проблем, медленно, с трудом вырабатывая в процессе социальной борьбы навыки самоорганизации. Оно не видит для себя реального выхода из создавшегося отчаянного положения и потому поддается на агитацию различных авторитарных и бюрократических групп — от ленинистов до бюрократических профсоюзов типа НПГ и ФНПР. В то же самое время, благодаря влиянию этих групп блокируется процесс развития общественного сознания. Впрочем, рабочие, кажется, уже научились не доверять политикам и не являются сегодня столь же легким объектом для манипуляций, как в эпоху перестройки. Кроме того, в рабочей среде появляются инициативные группы, которые предлагают новые нестандартные решения, основанные на принципе самоорганизации. И все же, движение пока еще отнюдь не обрело независимый, альтернативный по отношению к существующей общественной системе характер, не стало движением рабочих для самих рабочих.